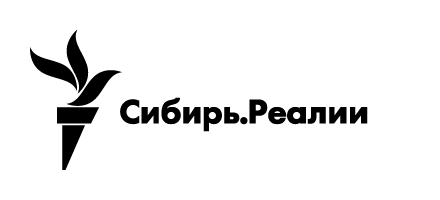В Институте Гёте в Тбилиси открылась выставка "Папины письма", организованная "Международным Мемориалом". Эти письма были отправлены из разных лагерей ГУЛАГа в 1930–50-х годах. Большинство отцов, писавших своим детям из бараков за колючей проволокой, не вернулись домой. Кто-то был расстрелян, кто-то погиб, не выдержав условий лагерной жизни. Но сами письма, переданные в архив "Мемориала" их адресатами, сохранились и стали "великим памятником любви", по словам Людмилы Улицкой, написавшей предисловие к русскому изданию "Папиных писем".
жет длиться разлука, только подогревали остроту любви и тоски.
Может быть, они не стали бы такими прекрасными отцами и вос-
питателями, если бы оставались в семьях, и не тюремное заклю-
чение, а рутина жизни отъединяла бы их от детей, но именно
эфемерность надежды возводила эти отношения на невиданную
высоту... Отцовский инстинкт, побуждающий передавать детям навыки жизни и начатки профессии, здесь концентрируется до предела. И как же много любви, энергии, заботы вложено в эти теперь обветшавшие листики дешевой бумаги, исписанные убористым и мелким почерком, чтобы побольше уместилось, потому что и лист бумаги, и конверт, и марка – драгоценности тюремного быта".
Проблема "отцов и детей" при Сталине заключалась в том, что дети не помнили своих отцов, арестованных порой ещё до их рождения. Это о них, о поколении Большого террора, спел Высоцкий: "…и брали в ночь зачатия, а многих даже ранее". Самыми "везучими" считались дети, чьи отцы не исчезли навсегда, получив "10 лет без права переписки". Счастливые советские дети знали, что их папа в лагере, где-то в Сибири, обещает вернуться и присылает письма с вложенными в них картинками: белки, медведи, тайга, красивые звезды в м орозном небе…
О том, как трудно было сочинять ответные письма в концлагерь, вспоминает Ирма Мамаладзе, чей отец был арестован через два года после её рождения:
"Письма от отца приходили редко, но регулярно. Это для матери были праздничные дни. Весть о письме разлеталась по родне, и через день-другой к вечеру приходили уцелевшие тетки, двоюродные и троюродные сестры отца. Каждая читала письмо самостоятельно, потом его читали вслух и комментировали. Тон писем отца всегда был бодрым и заботливым, тетки утешали мою мать: видишь, он в порядке, хорошо работает, ему сократят срок, обязательно сократят! Они утешали ее и плакали, а потом тихо начинали петь. Так в мою жизнь вошло грузинское многоголосье.
Одно из самых тяжелых воспоминаний: мне восемь лет, я сижу за обеденным столом, грызя деревянную ручку, перед тетрадным листком, на котором выведено: "Дорогой мой папочка!" Дальше этих слов я продвинуться не могу, я не понимаю, как и про что надо писать незнакомому человеку, о котором я знаю только, что он мой отец и что он "сидит" …. Меня страшит негодование матери: "Ну, почему, почему ты не можешь написать отцу человеческое письмо? Он ведь так ждет его, он так тебя любит…". Я знаю, что он меня любит, но это знание – теперь сказала бы я – умозрительное, мне от него ни тепло, ни холодно. О чем я могу написать? Подружек моих он не знает, мою мечту поступить в балетную школу почему-то категорически отверг, про книжки, которые читаю, писать долго – да и слышал ли он о них? Подгоняемая матерью, я вымучиваю какие-то плоские слова, не понимая, какой горечью, обидой и отчаянием они в нем отзовутся".
В интервью Сибирь.Реалии Ирма Мамаладзе, в прошлом обозреватель "Литературной газеты", рассказала о судьбе своего отца, инженера, осужденного на 10 лет за участие в антисоветской террористической организации и умершего от инфаркта в лагерном бараке на берегу Ангары.
– Инженерное образование отец получил в Тбилиси. В тридцатые годы он участвовал в запуске Земо-Авчальской ГЭС, первой гидроэлектростанции Грузии. Какое-то время он работал в системе "ГрузЭнерго", а затем был переведен в "Мосэнерго". Перед войной его направили в Наркомат обороны на должность главного инженера строительного управления. Когда началась война, отец отказался от "брони", и должен был отправиться в город Фрунзе (Киргизская ССР), куда была направлена на
переформирование Военно-инженерная академия, а потому летом отослал нас с
мамой в Тбилиси, к родителям. Перед тем как уехать в Среднюю Азию, он "заскочил" в Тбилиси. Была осень 1941 года. Отец приехал совсем ненадолго, мама говорила, что всего на несколько часов. Это была их последняя встреча. Вскоре после прибытия во Фрунзе отца арестовали и отправили сначала в Москву, потом в Тбилиси, где проходило следствие по делу о какой-то "подпольной контрреволюционной организации" (статья 58). Поэтому его этапировали в Грузию, он подвергался жесточайшему насилию в подвалах ГБ в Тбилиси, и никто из нашей семьи тогда об этом не знал.
– Жене увидеться с ним не разрешили?
– Она даже не подозревала, что её муж – рядом. В то время невозможно было представить, чтобы ГБ любезно сообщило: а вы знаете – ваш муж у нас, если хотите его видеть, пожалуйста, приходите. Какие свидания?! Палачи всё делали тайно.
– На сайте Сахаровского центра сказано, что Виктор Мамаладзе был арестован "по доносу дальнего родственника об антисоветских разговорах В.С.".
– Да, эту информацию они взяли из моей заметки, которую я написала для "Мемориала" после того, как в Иркутске ознакомилась с тюремным делом отца. К сожалению, я знаю не все подробности, потому что следственное дело, содержавшее протоколы его допросов, сгорело вместе с архивом КГБ в Тбилиси. Вскоре после прихода к власти Гамсахурдиа в 1991 году кто-то поджег здание КГБ, и большая часть архивов погибла. Когда я приехала в Тбилиси и запросила дело отца, мне выдали справку о том, что в связи с пожаром никаких документов из его дела не сохранилось. Но в иркутском тюремном деле есть упоминание о том, что донос написал дальний родственник отца – я не хочу называть его имени, потому что живы его потомки. Но кто это, я знаю. Они встретились в поезде Москва – Тбилиси и разговорились, после чего "дальний родственник" отправил донос в ГБ.
– Известно, что доносы часто писали из зависти или корыстного интереса. Какой мотив был у этого родственника?
– Совершенно не исключаю момент зависти. Отец занимал высокую должность, жил в Москве, в хорошей квартире. Так что его судьбе вполне можно было позавидовать.
– Вы упомянули, что его обвиняли в участии в некоей антисоветской организации. Кого-то ещё арестовали по этому делу?
– Нет, никого не арестовали. Видимо, отец не дал показаний, которых от него добивались. Что касается липовой антисоветской организации, то у нас в семье обнаружился ее участник. Моего троюродного брата в апреле 1948 года арестовали и обвинили в том, что он состоит в подпольной организации "Молодая Грузия" (по другим данным "Смерть Берии". – С.Р.). Брата звали Дурмишхан Алишибая. Его отец Епифан Нестерович был своеобразным человеком, окончил в свое время Эколь Нормаль, по Парижу был знаком с Ноэ Жордания, известным меньшевистским деятелем Грузии, двух сыновей назвал старинными именами. Дурмиша осудили на 25 лет, на допросах его пытали, избивали. А спасло его то, что он был медиком, студентом последнего курса Тбилисского мединститута. Он вернулся в 1955-м из-под Омска, где в лагере сидел вместе со Львом Гумилевым и помогал тому, как мог: укладывал его в больницу с мнимым диагнозом и давал бумагу – писать. В этом лагере Гумилев написал "Древние тюрки", свою знаменитую работу, и в преамбуле перечислил тех, кому благодарен за помощь. Алишибая – один из них. Впервые они встретились после лагеря у нас дома в Москве в 1982 году. Это надо было видеть. Дурмиш был нервным, подозрительным, и все время оглядывался и прислушивался, не следит ли кто за ним. И сохранил лагерную привычку, входя в комнату, класть шляпу или кепку на кровать, на подушку. И он, и Гумилев были твердо уверены, что "большой брат" неотступно следит за ними, поэтому обменивались редкими поздравительными открытками.
– Насколько я понял, в лагере Виктор Мамаладзе тоже работал по специальности, как инженер?
– Вначале, в лагере под Актюбинском в Казахстане, его назначили на какую-то руководящую инженерную должность на строящемся комбинате ферросплавов. Там он изобрел новый способ изготовления бетона. Когда началось строительство Братской ГЭС, его перевели в Озерлаг, и последние полтора года своей жизни он сидел в Ангарлаге (подразделение Озерлага) и работал на строительстве Братской ГЭС. Я помню, была маленькая газетная заметка, где говорилось, что "заключенный Мамаладзе является и.о. начальника строительства моста через Ангару". Мама эту заметку вскоре уничтожила, но мне было уже 8 лет, и я запомнила, что там было написано.
– Почему нужно было уничтожать эту заметку?
– Мама все уничтожила, все документы, связанные с отцом. Был 1949 год, начались очередные посадки, все вокруг ей говорили "ты понимаешь, что ты жена врага народа? Сожги эти письма, пусть никаких следов не останется". Она испугалась, что её тоже заметут, и ребенок (я) останется без обоих родителей. Сохранились только рисунки, которые отец делал для меня, потому что мама их вырезала из текста писем.
– Отец строил этот мост через Ангару: я помню, он писал матери, что, вот, пришлось переквалифицироваться из строителей гидростанций в мостостроители. Ангарлаг обеспечивал строительство рабочей силой, он находился неподалеку от Братска. Рядом с лагерем был поселок Заярск, сейчас он производит впечатление совершенно заброшенного места. Вокруг тайга, огромная гладь Братского моря.
От лагеря, конечно, ничего не осталось, только печальная память и
маленькие бугорки в тайге – следы могил. Мне показал их местный историк, Сергей Плющенков, удивительно милый человек и страстный краевед. Он занимается историей сибирских лагерей, перемещением в них людских потоков и, в частности, системой лагерных захоронений. Я видела у него большие тетради, в которых собран уникальный материал. Он согласился поехать со мной в Заярск и там показывал места захоронения заключенных в тайге – едва заметные всхолмления, никаких табличек, никаких опознавательных знаков. Никаких сведений – ничего. Море и тайга. Очень красиво и очень печально.
– И вы не знаете, где похоронен ваш отец?
– Нет, конечно. Но где-то в тех местах. О том, что отец похоронен именно там, я узнала из его тюремного дела, которое читала в архиве МВД в Иркутске, перед поездкой в Братск и Заярск. Сотрудники этого архива – удивительные люди. Они очень меня поддержали, без их участия, без чая, который они приносили, я не знаю, как бы справилась с чтением этой желтой папки. Очень тяжело читать такие документы… Например, мне попалась бумажка, такая "подорожная" для конвоира, который сопровождал отца в Озерлаг, она была озаглавлена "этапирование спеца". Очень страшно читать эти бумаги, страшно их перебирать. Кажется, что они из какой-то другой инфернальной жизни, которая к нашей человеческой жизни не должна иметь отношения.
– Как вы себя чувствовали, зная с детства, что ваш отец погиб в лагере, а вам приходится работать в советской газете…
– А что, был вариант работать в какой-то другой, не советской, газете?
– Некоторым удавалось эмигрировать.
– Вопрос об эмиграции я никогда не рассматривала, честно говоря. Понимаете, я была не одна такая, у кого арестовали отца. На фоне того, что случилось с другими, я считаю, что моя судьба была относительно благополучной - моего отца не расстреляли. У меня сохранились какие-то сведения о нем, его рисунки. А ведь многие люди в то время исчезали бесследно, и близкие долгие годы не знали, куда они делись и что произошло. Мы по крайней мере через два года после его ареста узнали, что он в лагере. Потом от него стали приходить письма. То есть у нас с ним был контакт, между нами сохранялась живая связь. В этом смысле я считаю, что нам повезло гораздо больше, чем другим семьям, которые просто лишились человека, – он испарился, его не стало. У меня было много таких знакомых. Я принадлежу к поколению родившихся перед самой войной, к поколению, чьи родители прошли через государственный террор, коснувшийся очень многих. Моя судьба не исключение. Для нашей страны тех лет это было не скажу "правилом", но – вполне обычным делом. Да, моего отца арестовали, а вот мужей двух моих теток расстреляли. Когда мне было три года, нас приютила в Тбилиси двоюродная сестра отца, Тамара Ломтатидзе. Ее мужа Германа Ломтатидзе расстреляли в 1937 году, как она говорила, "вообще без суда".
– Что вам сильнее всего запомнилось из переписки с отцом?
– Безумная тоска. Рефреном его писем было то, что мы обязательно увидимся, он обязательно вернется, он сделает все, чтобы вернуться к нам. Вот что я помню.