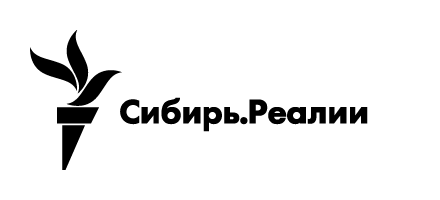Чтобы не пропускать главные материалы Сибирь.Реалии, подпишитесь на наш YouTube, инстаграм и телеграм
75 лет назад, в январе 1950 года, было принято решение о строительстве Иркутской ГЭС, первой в Сибири. Девять лет спустя Александр Твардовский в поэме "За далью – даль" описал день перекрытия Ангары, в которую с самосвалов сбрасывали тяжелые бетонные блоки:
За сбросом сброс гремел в придачу,
Росла бетонная гряда,
Но не хотела стать стоячей
Весь век бежавшая вода.
Говорят, что, когда закончилось строительство дамбы на Ангаре, уровень Байкала поднялся примерно на один метр. С тех пор Байкал уже не тот, каким его создала природа, – технически это одно сплошное Иркутское водохранилище.
Специалисты могут сказать что-нибудь про поверхностное натяжение, про мелководье в устье вытекающей из Байкала Ангары (там, где даже после затопления все еще виден загадочный Шаман-камень), но нас это не должно отвлекать. Всякий, кто не утратил способности удивляться, будет поражен, осознав, что одна небольшая плотина длиной всего-то 2,5 километра удерживает самое большое пресноводное озеро на планете.
Иркутск – такая же плотина, которая удерживает в этих краях самое большое государство на планете. И через которую это государство даже периодически выплескивается наружу – то в Русскую Америку, то в Монголию. Именно в Иркутске была ликвидирована "единая и неделимая Россия", не случилась социалистическая республика Сибирь, сгинула желающая восстановиться еще в XIX веке независимая Польша.
Пересекаясь в нескольких точках пространства-времени, история и современность Иркутска закручивается в множество концентрических кругов. Четыре из них описаны здесь.
В рубрике "Ретроград" мы рассказываем о прошлом и настоящем сибирских провинций. Города и люди в них живущие – главные герои этой рубрики.
Круг первый: Шелихов, Окладников, Колчак
Начнем с Иркутской ГЭС. В этой станции интересно многое. Хотя бы то, что это первая гидроэлектростанция в Сибири, построенная задолго до крупнейшей в нынешней России Саяно-Шушенской, воспетой в поэме Евтушенко Братской и легендарной благодаря песне Юрия Визбора Красноярской станциям ("зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей"). Хотя бы то, что она удерживает на себе Байкал – весь целиком, без остатка, а Байкал даже из космоса видно.
Не менее интересно и то, что Иркутская ГЭС воплощает в себе специфический дух сибирской вольности. Дело в том, что это одна из немногих ГЭС в России, которая не принадлежит государству. Наряду с Братской, Красноярской, Ондской и Усть-Илимской она входит в структуру большого холдинга, названия и внутреннее устройство которого постоянно меняются (Иркутскэнерго, Байкальская энергетическая компания, ЕвроСибЭнерго и так далее).
Но каждый иркутянин знает, что именно этот холдинг, наряду с "Серым домом" (так называют здание регионального правительства), и управляет регионом. Даже его офис находится прямо по соседству с правительством и выглядит если не внушительнее, то гораздо свежее.
Иркутская ГЭС строилась, конечно, ради дешевой энергии. А дешевая энергия в те стародавние времена была нужна не для "майнинга крипты", а для производства алюминия. Поэтому основной потребитель – Иркутский алюминиевый завод, расположенный в городе Шелехов, нынешнем пригороде Иркутска.
Не так уж часто советские города называли в честь дореволюционных героев. Григорий Шелихов ("Шелеховым" его отчего-то назвали советские историки при наименовании города) не был иркутянином, он родился в городе Рыльске, неподалеку от Белгорода. Однако он еще до всяких советских пятилеток доказал, что город, находящийся в самом сердце континента, может быть "портом пяти морей". Именно в Иркутске Шелихов основал Северо-Восточную компанию для освоения побережья Тихого океана и покорения Аляски с Калифорнией. Именно Шелихов открыл для России Америку, за что поэт Гавриил Державин назвал его "российским Колумбом". Через четыре года после смерти Шелихова унаследовавший бизнес его зять Николай Резанов (именно его история стала прототипом для мюзикла "Юнона и Авось") переименует предприятие в Русско-Американскую торговую компанию, которая следующие полвека будет главным колониальным двигателем Российской империи.
Надгробие Григория Шелихова находится по сей день в иркутском Знаменском монастыре, одном из старейших в Сибири. Через 130 с небольшим лет после смерти "российского Колумба" монастырь начали понемногу сносить – по официальной версии, в целях расширения иркутского гидропорта. Это уникальное для Сибири авиапредприятие, одно из немногих в СССР, где пассажирские самолеты садились прямо на Ангару, а монастырские постройки в начале 1930-х служили аэровокзалом для пассажиров, отправлявшихся на восток – в Якутию.
Монастырь, впрочем, собирались снести, однако за него заступился тогдашний директор Иркутского краеведческого музея Алексей Окладников. Заступился, как мы теперь знаем, вполне успешно: власти оставили монастырь в покое.
Окладников родился в тогдашней Иркутской губернии, сделал выдающуюся научную карьеру, стал знаменитым археологом, историком, академиком и долгое время возглавлял Институт истории, филологии и философии СО АН СССР (теперь это три разных института). Однако в самом Иркутске его судьба поначалу складывалась не очень-то гладко. Прежде всего потому, что его отца, прапорщика и эсера Павла Окладникова 6 января 1920 года (его сыну, будущему академику, было тогда двенадцать) казнили за вооруженное сопротивление режиму Колчака. Белые в те дни отступали из Иркутска и уничтожали оставшихся в тюрьмах политических заключенных. Окладникова-старшего с тремя десятками других сторонников так называемого Политцентра (о котором речь впереди) оглушили колотушкой для льда, а затем сбросили за борт.
Эта массовая казнь проходила на борту парохода "Ангара". Сейчас это один из немногих российских кораблей – памятников "на вечном приколе". Место его последней швартовки – Иркутская ГЭС.
Так замыкается первый иркутский концентрический круг.
Круг второй: колыбель русской революции
Через 9 дней после того, как на пароходе "Ангара" убили отца будущего академика Окладникова, 15 января 1920 года в Иркутск, на станцию Иннокентьевская (теперь она называется "Иркутск – Сортировочный"), прибыл и сам Верховный правитель России адмирал Александр Колчак.
Над его поездом развевались пять союзных флагов, которые должны были символизировать международную защиту состава. Международную – потому что никакой другой защиты у пассажиров этого поезда уже не было. Еще в Нижнеудинске поезд Верховного правителя, направлявшийся из Омска, старой столицы Российского государства, в Иркутск – новую столицу Российского государства (формально Иркутск около месяца был российской столицей), был блокирован союзниками и покинут сопровождавшим его конвоем. Колчак, как теперь мы знаем из воспоминаний его соратников, союзникам не очень-то верил. И, как теперь мы тоже знаем, его сомнения вскоре оправдались самым трагическим образом. Едва поезд Колчака прибыл в Иркутск, как чешский конвой, с благословения командующего союзными войсками генерала Мориса Жанена, передал его тому самому Политцентру, сторонников которого солдаты Колчака казнили в Иркутске чуть более чем за неделю до этого.
Вспоминая этот драматический эпизод своей карьеры, который принес ему неофициальный титул "Генерала без чести", Морис Жанен с военной прямотой объясняет, что причиной выдачи Колчака большевикам был отказ адмирала передать французам золотой запас Российской империи, следовавший в отдельном эшелоне под охраной чешских солдат.
"Мы психологически не можем принять на себя ответственность за безопасность следования Адмирала. После того, как я предлагал ему передать золото на мою личную ответственность и он отказал мне в доверии, я ничего уже не могу сделать". (Гинс Г. К. "Сибирь, союзники и Колчак")
Через 7 лет после стремительной расправы над адмиралом журналист-эмигрант Анатолий Гутман-Ган, ехавший почти одновременно с Колчаком по Транссибу, а затем сотрудничавший с главными газетами русской эмиграции, писал в своей статье "Выдача адмирала Колчака" (Париж, май 1927 года), что Колчак дал телеграмму из Нижнеудинска во Владивосток по поводу вывозимого имущества. В ответ ему телеграфировали, что всякого добра чехословацкие гарнизоны прихватили с собой уже по меньшей мере на миллион золотых рублей. Поэтому, утверждал Гутман-Ган, генерал Жанен и выдал Колчака Политцентру – в качестве "залога" за свободный проезд оставшихся гарнизонов.
Политцентр, хотя и выполнил секретное распоряжение Ленина о расстреле Колчака, но претендовал на то, чтобы быть самостоятельным участником политического процесса и не прочь был взять под свой контроль территорию от Оби до Байкала.
"Девятнадцатого января (1920 года)в Томске начались переговоры представителей Политцентра, Сибревкома и 5-го Реввоенсовета армии об условиях создания и границах восточно-сибирского буфера", – пишет в статье "Между революцией и контрреволюцией: социальная политика политцентра" профессор Рынков, нынешний директор Института истории СО РАН.
Переговоры закончились ничем. Большевики решили создать "буферное государство" в Забайкалье. Оно просуществовало 2 года и называлось ДВР (Дальневосточная Республика).
А Политцентр был не первым "красным" правительством в Иркутске за годы Гражданской войны. С февраля по август 1918 года – Иркутском и окрестностями управлял ЦИК Советов Сибири ("Центросибирь"), многопартийный, но с большевиками во главе. Кстати, "Центросиб" был провозглашен на два дня раньше большевистского правительства в Петрограде, 23 октября 1917 года. Так какой город следует считать "колыбелью революции", Петроград или Иркутск?
Центросибирь принял два совершенно удивительных решения. Во-первых, он не признал Брестский мир. То есть существовало в 1918 году в России большевистское правительство, не признававшее волю самого Ленина, и работало оно в Иркутске. Во-вторых, здесь была провозглашена Сибирская советская республика со своим собственным Совнаркомом. Не назначенным из Москвы, а выбранным здесь же, в Иркутске, на Общесибирском съезде советов.
"От имени Сибирской советской республики второй Всесибирский съезд Советов заявляет, что он не считает себя связанным мирным договором, если таковой заключит Совет Народных Комиссаров с германским правительством". Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г. — июль 1918 г.): сборник документов
Сибирская советская республика в августе 1918 года была сметена чехословацкими легионерами, прибывшими в город на ту же станцию Иннокентьевская, куда через полтора года (и под теми же флагами!) прибудет адмирал Колчак. Злополучная эта станция: лишила Сибирь вначале собственной союзной республики (пригодилась бы в декабре 1991 года), а затем и единственного в ее истории Верховного правителя России, сделавшего своими столицами поочередно два сибирских города.
Колчак (вместе с премьер-министром своего правительства Виктором Пепеляевым) был расстрелян большевиками 7 февраля 1920 года, как считается, на месте впадения реки Ушаковка в Ангару. Всего в десяти километрах от будущей Иркутской ГЭС, удерживающей Байкал. Рядом с этим местом в 2004 году был установлен удивительный памятник Колчаку. На его постаменте белый и красный солдаты склоняют оружие как бы в знак примирения. Эта идея символического мира между участниками Гражданской войны долгое время была популярна в России, пока Путин не начал новую войну.
По иронии судьбы, памятник установили прямо у входа в Знаменский монастырь, сохранением которого мы обязаны сыну убитого солдатами Колчака Павла Окладникова.
Так замыкается второй иркутский концентрический круг.
Круг третий: Рубинштейн, Лаврентьев, Распутин
Алексей Окладников, мальчик из далекого сибирского села Константиновка, сын то ли врага народа, то ли верного революционера (по поводу эсеров генеральная линия компартии постоянно колебалась), стал академиком во многом благодаря тому, что в 1925 году он поступил в недавно созданный Иркутский педагогический институт, причем на курс к одному из самых известных тогдашних российских этнографов Бернгарду Петри, посвятившему половину жизни археологии Сибири и расстрелянному в Иркутске осенью 1937 года.
Петри родился в Швейцарии в семье приват-доцента Бернского университета, в Иркутск он приехал в разгар Гражданской войны по приглашению профессора Моисея Рубинштейна (выпускника Фрайбургского университета), который в 1918 году посреди бушующей Сибири создавал в Иркутске университет своей мечты по самым современным мировым образцам.
Иркутский государственный университет, как известно, пытались открыть еще при императоре Николае II, затем снова попытались это сделать при Временном Сибирском правительстве и все-таки открыли при Колчаке.
То, что было плохо для страны, оказалось хорошо для Иркутска и его новорожденного университета – от большевиков на восток бежали десятки и сотни первоклассных профессоров. В то время, когда правительства по всей стране менялись быстрее, чем их названия успевала запоминать удивленная публика, в Иркутском университете преподавали три обязательных иностранных языка, римское право, социологию, а также 56 факультативов – от египтологии до философии шаманства.
После прихода к власти в Иркутске тех самых большевиков, от которых сюда и убегали многочисленные профессора, Рубинштейн предпринимает попытку спасти университет и уходит с поста ректора. Уходит, чтобы создать небольшой учительский институт – в который всего через несколько лет и поступит Окладников.
Учительский институт располагался в том числе в здании, которое ныне имеет адрес "Сухэ-Батора, дом 9". В отличие от многих других иркутских улиц, названных в честь не имеющих никакого отношения к городу революционеров, улица Сухэ-Батора носит свое имя по справедливости.
Именно на этой самой улице, более того – именно в том же самом здании, где Рубинштейн создавал учительский институт, по соседству с тем же самым Бернгардом Петри жил Дамдин Сухэ-Батор, вождь Монгольской революции 1921 года, военный министр правительства независимой Монголии. Которая, собственно, потому и стала независимой, что Сухэ-Батор жил в Иркутске на будущей улице имени себя не просто так, а ради обучения военному искусству и вербовки солдат. Именно из Иркутска будущий "монгольский Ленин" (к слову, удостоенный и встречи с Лениным настоящим) отправится вначале в Кяхту, а уже оттуда – во главе армии – на Ургу, нынешний Улан-Батор.
В отличие от военных подвигов Сухэ-Батора, приведших к созданию нового государства, педагогические подвиги Моисея Рубинштейна в конечном счете оказались тщетными. Большевики после многочисленных административных реформ все-таки закрыли Иркутский университет в 1930 году.
Впрочем, в самом Иркутском университете теперь считают, что не закрыли, а так – приостановили деятельность. Поэтому открытый в следующем, 1931 году, Восточно-Сибирский университет под руководством советского прокурора с двумя классами образования Григория Русакова – это тот же самый университет. Если так, то именно Рубинштейн, Петри и примкнувший к ним Окладников виноваты в том, что в середине XX века местом размещения Сибирского отделения АН СССР был выбран Новосибирск, а не Иркутск.
Оставьте нас в покое!
Легенда гласит, что именно Иркутск рассматривался как основной претендент на размещение главного научного объекта востока страны – со всеми вытекающими отсюда инвестиционными и кадровыми последствиями на многие десятилетия вперед. Именно этих кадровых последствий и испугалась университетская профессура. Приехавшему в Иркутск близкому соратнику Никиты Хрущёва академику Михаилу Лаврентьеву была донесена совместная резко отрицательная позиция Иркутского университета и местного обкома партии по поводу размещения в городе объектов Сибирского отделения Академии наук СССР. Между наплывом большого количества столичных ученых и тихим существованием в своем уютном мирке университет выбрал второе.
Затем это вошло в традицию. В начале 2000-х годов Иркутск упустил шанс создания у себя Сибирского федерального университета, который в 2006 году был образован на базе откровенно более слабых, чем ИГУ, красноярских вузов. А сам ИГУ уже в начале 2010-х годов так и не смог стать частью "высшей лиги" российских вузов: не вошел в программу 5–100 и даже не стал "национальным исследовательским университетом" (в 2011 году этот статус получит на удивление всего города Иркутский политех, имеющий скромные научные показатели, но большие лоббистские способности).
В результате едва ли не единственным явным достижением ИГУ последних десятилетий стало строительство в Иркутском академгородке (жалкой копии того, что могло бы быть построено, если бы местная элита не испугалась перемен) огромной и современной Научной библиотеки им. В. Распутина. Говорят, что, когда в новое здание в 2017 году свозили книги из многочисленных существовавших до этого разрозненных библиотек, университетский КамАЗ сделал более 200 рейсов с полным кузовом книг. Вот что такое "3 миллиона единиц хранения", если представить это наглядно.
Иркутску в новое время вообще везло с библиотеками. За три года до открытия Научной библиотеки ИГУ неподалеку от нее было введено в строй новое здание Иркутской областной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Нет ни одного другого сибирского областного центра, который может похвастаться вводом в строй новой региональной библиотеки.
Иван Молчанов-Сибирский, именем которого названа библиотека, был известным советским поэтом и прозаиком, творившим в Иркутске. А еще у него была дочь Светлана, которая вышла замуж за Валентина Распутина – культового советского писателя, автора "Прощания с Матёрой" и "Живи и помни", одного из самых известных выпускников Иркутского университета. Неудивительно, что именем Распутина назвали открывшуюся в 2017 году новую научную библиотеку Иркутского университета. Между библиотекой имени тестя и библиотекой имени зятя ровно 500 метров. В этом смысле Иркутск – очевидный российский лидер по плотности новых библиотек. Кстати, библиотека имени зятя, как и полагается по этикету, немного поскромнее – правда, всего на один этаж.
Валентин Распутин в последние годы жил в Москве и там же умер в 2015 году. Однако похоронить себя он завещал в родном Иркутске, что и было сделано в ограде все того же Знаменского монастыря. Неподалеку от памятника Колчаку, окончательно основавшему Иркутский университет, где именем Распутина теперь названа научная библиотека.
Так замыкается третий иркутский концентрический круг.
Круг четвертый: декабристы, поляки и другие "мятежники"
Университет в Иркутске открылся бы гораздо раньше, еще в XIX веке, если бы не свободолюбие его жителей. К 1878 году, когда власть окончательно выбрала Томск в качестве локации для первого императорского университета в Сибири (а фактически – восточнее Казани), у Иркутска были объективно лучшие условия. Именно здесь еще в начале 1730-х годов трудами епископа Иннокентия открылась первая в Сибири школа, куда удалось набрать аж 60 мальчиков. Именно в Иркутске в 1785 году открылся первый восточнее Тобольска музей. Именно в Иркутске в 1851 году стараниями тогдашнего генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского ( этот титул он получит позднее) открылось одно из двух первых региональных отделений Русского географического общества. Со своими экспедициями (отсюда отправлялись в походы Потанин, Пржевальский, Ядринцев, Черский и другие) и научным журналом. Наконец, именно в Иркутске жили богатейшие сибирские купцы, сделавшие состояние на транзитной торговле с Китаем.
Однако тот же Муравьев-Амурский по поводу создания университета в Иркутске писал прямо и недвусмысленно: "При наклонности сибиряков к кляузничеству, сутяжничеству и неповиновению основание в Сибири университета поведет только к усилению этих пороков".
И, в общем-то, был совершенно прав. Именно Иркутск и его окрестности приняли значительное количество участников восстаний за восстановление независимости Польши в 1830 и 1863 годах. Позднее к ним присоединились депортированные из Польши организаторы и участники волнений 1905–1907 годов, а до этого – участник заговора против императора Александра III Юзеф Пилсудский, будущий маршал Польши и первый глава возрожденной независимой Польши (Второй Речи Посполитой). Иркутск и сейчас – самый польский из всех сибирских городов. Вероятно, именно это обстоятельство позволило Иркутску в 2002 году стать центром самой большой по площади католической епархии в мире (Святого Иосифа).
Именно в Иркутск и окрестности – ближние и дальние – ссылали и избежавших казни декабристов. Это для нас восстание декабристов – дела давно минувших дней. А для того же Муравьева-Амурского декабристы – самые что ни на есть современники, жившие одновременно с ним в Иркутске. Самыми знаменитыми из них, конечно, были Сергей Трубецкой и Сергей Волконский. Во многом благодаря тому, что именно их жен Екатерину Трубецкую и Марию Волконскую воспел в своей поэме "Русские женщины" Николай Некрасов. Это именно Трубецкая – та самая "княгиня-дочь", которая "куда-то едет в эту ночь".
Трубецкой из двоих некрасовских героинь, кстати, повезло меньше: из Сибири она так и не вернулась, и в 1854 году была похоронена всё в том же Знаменском монастыре. Историк Натан Эйдельман писал, что Сергей Трубецкой несколько часов плакал над могилой жены, уезжая из Иркутска по амнистии 1856 года.
У самого Трубецкого, в свою очередь, были и менее удачливые коллеги-декабристы, которые не дожили до амнистии. Например, Никита Муравьев, умерший под Иркутском в 1843 году. По "Конституции" Муравьева, кстати, Иркутск должен был стать столицей "Ленской державы" – одного из 15 субъектов обновленной Российской федерации.
Автор альтернативного "Конституции" проекта переустройства России – "Русской правды" Павел Пестель никогда в Иркутске не был, поскольку был повешен через полгода после декабристского восстания в Петропавловской крепости. Зато его отец, Иван Пестель, в Иркутске не просто был, а пытался управлять отсюда всей азиатской частью страны, будучи сибирским генерал-губернатором. Правда, из 13 лет на этом посту в Иркутске он прожил неполные два, а затем управлял Сибирью из более комфортного Петербурга. В связи с этим в столице рассказывали анекдот:
Отец декабриста, Иван Борисович Пестель, сибирский генерал-губернатор, безвыездно жил в Петербурге, управляя отсюда сибирским краем. Это обстоятельство служило постоянным поводом для насмешек современников. Однажды Александр I, стоя у окна Зимнего дворца с Пестелем и Ростопчиным, спросил: "Что это там на церкви, на кресте черное?" – "Я не могу разглядеть, Ваше Величество, – ответил Ростопчин, – это надобно спросить у Ивана Борисовича, у него чудесные глаза: он видит отсюда, что делается в Сибири".
В итоге Пестель-старший был смещен со своего поста и заменен Михаилом Сперанским – тем самым знаменитым реформатором при юном Александре I. Сперанский был сибирским генерал-губернатором недолго, менее двух лет (1819–1821), зато большую часть этого времени честно отработал в положенном ему по статусу Иркутске. За что ему на нынешней улице Сухэ-Батора в Иркутске поставлен памятник – кстати, всего лишь один из двух в России. А площадь перед зданием областного правительства носит имя Сперанского с 2016 года.
Да и сам Муравьев-Амурский, даром что обвинял вверенных ему иркутян в свободомыслии, сам был скорее авантюристом-путешественником, чем генерал-губернатором. В Иркутске времени он проводил немного. Зато сплавлялся по Амуру – между прочим, по территории, которая по всем тогдашним договорам принадлежала Китаю. Мотался на Камчатку (что и по нынешним-то временам долго и непросто), где придумал сделать из нынешнего Петропавловска-Камчатского главную базу российского флота на Тихом океане (зачем? почему?). Наконец, заключил с Китаем Айгунский договор и Пекинский трактат, по которым к России отошли нынешние Амурская область, Хабаровский край (частично) и Приморский край.
Когда Муравьев-Амурский появлялся в Иркутске, то работал он в своей резиденции – так называемом "Белом доме". В котором в 1917–1918 годах располагался Центросибирь, вольное большевистское правительство Сибири. А затем открылся Иркутский университет – почти на полвека позже положенного. Если бы не декабристы, поляки и сам критиковавший их Муравьев-Амурский.
Так замыкается четвертый иркутский концентрический круг.
Эпилог
Пожалуй, не будет большим преувеличением сказать, что Иркутск – это Россия в миниатюре. Присягающая на верность верховной власти, но держащая при этом фигу в кармане. Знающая, как использовать государственные интересы для собственных авантюрных проектов. Одинаково почитающая палачей и жертв, монархистов и революционеров, стоящих храмы и разрушающих храмы. Неровная, нервная, непоследовательная Россия.
Если начать прогулку по Иркутску от Знаменского монастыря, в котором пересекаются множество кругов местной истории, то сразу после государственников Колчака и Шелихова попадешь на местную барахолку, в простонародье – "Фортуну", все еще уверенно существующее наследие антигосударственных 90-х. Сразу после "Фортуны" вдоль набережной Ангары – к восстановленным имперским Московским воротам. Между прочим, первым в России, построенным впервые за двадцать лет до таких же триумфальных в Москве и Петербурге. От Московских ворот – к памятнику "Основателям Иркутска", которыми были те, кого сегодня собирательно называют "казаками". Чтобы не называть их авантюристами и искателями приключений, прикрывающими свои авантюры государственными интересами.
От "Основателей" – к Спасской церкви, говорят, самому старому каменному зданию Восточной Сибири. Ее собирались сносить несколько раз за годы советской власти, но отчего-то оставили – хотя ее соседу, огромному Казанскому кафедральному собору, сейчас повезло меньше. На его месте поставили "Серый дом" – здание регионального правительства и Вечный огонь, сделанный в лучших советских традициях. Где вы вообще видели, чтобы Вечный огонь соседствовал со старинным православным собором? А вот в Иркутске – пожалуйста.
И это мы еще только начали. Дальше будет памятник имперскому чиновнику Михаилу Сперанскому, стоящий на улице революционера Сухэ-Батора. Будет "Белый дом" – бывшая резиденция генерал-губернатора Муравьева-Амурского, сделавшего все, чтобы университета в городе не было, но именно в его бывшей резиденции он по иронии судьбы и открылся. С задержкой на пару месяцев, потому что пришлось перезахоранивать братскую могилу революционеров около его главного входа. И так далее, и так далее, по кругу времени, точнее, по кругам...
А кстати, почему эти круги концентрические? Это дань обиженным вначале технарям, которые, несмотря на очевидное, продолжают утверждать, что Иркутская ГЭС вовсе не держит на себе весь Байкал. Концентрические – значит, имеющие один центр. Этот центр в Иркутске разные люди определяют по-разному. Кто-то говорит, что это Шаман-камень – скала в истоке Ангары, которая и после подъема Байкала видна над водой. Кто-то говорит, что это Иркутск целиком – как в советской песне, где "любимый Иркутск" именовался "серединой Земли", которая ныне стала его официальным гимном. Кто-то говорит, что Знаменский монастырь, сводящий в одну точку пространства-времени десятки совершенно разных судеб. Ясно одно – такой центр в Иркутске точно имеется. Иначе не расходились бы от него все эти загадочные концентрические круги, радиус которых то ограничивается тесным монастырским двором, то расширяется до доброй половины мира.