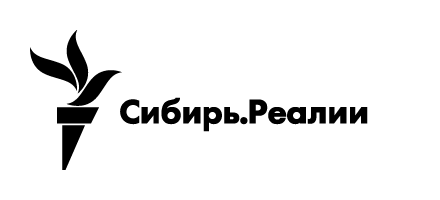18 февраля 1889 года родился Александр Яворский – создатель и первый директор заповедника "Столбы". Его приговорили к 10 годам лагерей за то, что он якобы тренировал на отвесных скалах террористов, которые готовились убить Сталина.
Чтобы не пропускать главные материалы Сибирь.Реалии, подпишитесь на наш YouTube, инстаграм и телеграм.
1937 год. Веселый тучный следователь НКВД средних лет допрашивает недавнего директора красноярского заповедника "Столбы" Александра Яворского. Своей фамилии он обвиняемому не называет: "Тебе это совсем не нужно". Обвинение очень серьезное: в том, что Яворский организовал и тренировал группу молодых столбистов, которые должны были перелезть через кремлевскую стену, чтобы убить Сталина и других вождей страны.
Ошарашенный Яворский отказывается признаваться в подготовке покушения и подписать протокол. Следователь предупреждает: "Тогда мы тебя будем бить". Худой, словно из одних жил состоящий Яворский тихо, но очень отчетливо отвечает: "Только попробуй".
Через два десятилетия он будет вспоминать эти допросы так: "В общем, для меня это все было как во сне. Будучи столбистом, я привык к опасностям на камнях и здесь это мне помогло. Я спокойно (как мне казалось) смотрел на следствие и на все его процедуры".
Как ни странно, Яворского не были. Следователь предпочел прибегнуть к обману: воспользовался тем, что при аресте у столбиста отобрали очки и он очень плохо видел. Зачитал один текст протокола, а на подпись подсунул другой. Яворский не мог даже предложить, что подписывает совсем не то, что услышал. В итоге он был осужден на 10 лет лагерей.
Яворский узнал, что один из доносов на него написал старый товарищ, тоже столбист. Когда он вернулся в Красноярск, доносчик уже умер. Яворский никому не стал говорить о его предательстве – пожалел родных, которые считали его порядочным человеком и искренне оплакивали его смерть…
"По Москве разнесся слух, что император наш протух"
Будущий директор заповедника "Столбы" родился 18 февраля 1889 года в Иркутске, куда после вуза распределили его отца, поляка Леопольда Яворского. Киевлянин по рождению, он женился на иркутянке Анне Карпинской, работавшей воспитательницей детдома. Он умерла, когда сыну было всего 3 года.
Из воспоминаний Александра Яворского:
"Вспоминается мне и мое детство, но почему-то все, связанное с матерью, туманно. Сколько я не стараюсь что-либо припомнить из раннего детства, связанного с моей родительницей, все оно прячется от меня под завесой времени и передо мной встает образ матери, скорее с семейного портрета, чем из прошедшей действительности. Я не помню ее лица, глаз, говора, манеры держаться, а если и помню, то это, конечно, только плод моего воображения".
Леопольд Яворский женился еще раз, его перевели в Красноярск, где Александр поступил в классическую гимназию. Летом 1904 года вместе с отцом и мачехой он впервые посетил Столбы – уникальные скалы из сиенитовых пород неподалеку от Красноярска.
Из воспоминаний Яворского:
"Когда я впервые в 1904 году с родителями пошел на Столбы, то, остановившись у тропы, мы наблюдали такую сцену: на крыше избушки лежат столбисты во главе со студентом Байкаловым и распевают "Зимушку" с таким припевом:
От Урала до Дуная
Нет глупее Николая,
А по Москве разнесся слух,
Что император наш протух.
Приближался 1905 год, и Столбы были на большом подозрении. Слово "Свобода" было написано на Втором Столбе еще в 1899 году. Поэтому то возле одной стоянки, то возле другой появлялись конные казаки.
… Столбы произвели на меня какое-то непонятное впечатление. Между прочим, я всегда с одного раза не впечатляюсь, если так можно выразиться. Но во всяком случае эти скалы были для меня, конечно, интересными, но не захватили меня..."
Лишь позже, когда Яворский начал посещать Столбы с друзьями, он осознал удивительную красоту этих мест. Оценить ее в полной мере Яворскому помог художник Дмитрий Каратанов, с которым он будет дружить до конца жизни.
Учился Яворский плохо. Он так часто сбегал с уроков, чтобы провести время на Столбах, что остался на второй год в третьем классе гимназии. Он стал частью каратановской компании столбистов, одним из строителей и постоянных обитателей избушки "Дырявая".
Со временем Яворский буквально влюбился в Столбы. Это о них он напишет:
"Я полюбил их так, как любят друга,
Как любят женщину, как собственных детей,
И все часы свободного досуга
Я отдал сердцу сказочных камней".
Второй любовью Яворского стал красноярский краеведческий музей, который был его ровесником. В 1905 году он становится "постоянным добровольным посетителем и бесплатным помощником" в музее, все время пытается найти что-то новое для его экспозиции – то редкие птичьи гнезда, то диковинный корень тополя, обросший вокруг камня… В 1909 году, еще гимназистом, впервые участвует в экспедициях музея на Минусинскую котловину и на реку Чулым. А с 1911 года становится штатным сотрудником.
Когда пришло время поступать в вуз, Яворский выбрал родной город отца и стал студентом естественного отделения Киевского университета. Он учился на физико-математическом факультете, но параллельно ходил слушать лекции по ботанике, которая и стала его основной специальностью.
Все годы учебы в Киеве Яворский очень скучал по Столбам. С собой он привез и бережно хранил три драгоценности: кусок столбовского сиенита, пропитанную дымом таежных костров опояску и веточку пихты. А над кроватью развесил открытки с видами любимых скал.
"Ее бы огородили золотой оградой"
В последний год учебы в киевском университете Яворский женился – неожиданно для себя самого.
Из воспоминаний Яворского:
"В одной из комнат появилась новая жилица, которая была машинисткой на военном Димиевском заводе. Как-то в коридоре мы разговорились с ней и провели вечер вместе, а на утро в воскресенье, ни с того, ни с сего решили обвенчаться".
После окончания института Яворский, не раздумывая, отказался от предложения остаться на Украине и вернулся в Красноярск. Сразу же пришел в краеведческий музей, где его встретили с распростертыми объятиями.
Уже в Красноярске на свет появилась дочка Надя, которую родители ласково называли "Кнопочкой". Они очень горевали, когда дочка умерла совсем малышкой… Яворский искал утешения на Столбах. Пытался приобщить и жену, но она оказалась совершенно равнодушной к красоте сибирских скал.
Из воспоминаний Яворского:
"Так сразу у нас не состоялось ничего общего, в смысле наслаждения природой. Это все было ей чуждо и жутко, и даже неприятно... Естественно, что я не захотел делить с ней этого ее жития, и, как и раньше, ходил в природу со своими столбовскими друзьями. Жертвовать собой я не захотел, и, пожалуй, был прав, иначе бы меня затянуло к себе это безразличие моей супруги".
24 сентября 1916 года Яворского призвали в армию, однако на фронт он не попал: служил в запасных полках в Канске и Нижнеудинске. После событий 1917 года вернулся в музей, где возглавил ботанический отдел и начал специализироваться в области микологии.
Вскоре на свет появилась вторая дочь Маруся. Постоянно пропадавший в музейных экспедициях Яворский оказался, тем не менее, заботливым отцом:
Из воспоминаний Яворского:
"Как-то вечером ко мне подошла моя дочка Маруся и сказала, что она была рядом у Воропкаловых и там ели кашу, а в каше дырка, а в дырке масло. При этом у ней даже показались слезинки... Я привез из поездки большой паек махорки, которую выдавали как обязательную порцию всем, даже и некурящим. А я все еще курил. Тогда я решил, что надо и бросить курить, и это даст лишнее питание для дома. Я завязал весь запас в узелок и вышел на базарную площадь... Не прошло и часа, как у меня ее всю расхватали курильщики. На вырученные деньги я купил крупы и масла. Придя домой, я сказал Марусе: "Ну, дочка, теперь у нас будет каша, в каше дырка, а в дырке масло". Так я и бросил курить..."
Хоть Яворский и любил дочь, отношения с женой становились все более прохладными. Первый брак распался, и Яворский женился во второй раз – на такой же заядлой столбистке, как он сам. С Евдокией Овсянниковой со стоянки "Беркуты" он проживет всю жизнь. В этом браке родится еще одна дочь – Алевтина. Ей будет всего 12, когда отца арестуют.
В послереволюционные годы Яворский загорается еще одной целью – сделать любимые Столбы охраняемой территорией. Вероятно, эту идею ему подали пленные австрийцы.
Из дневников Яворского:
"К западу от Второго Столба … в 1919 году был построен барак силами военнопленных австрийских офицеров, заготовлявших здесь дрова для городского хозяйства. После войны 1914-1917 годов военнопленные еще долго оставались в нашем Союзе. … После окончания войны из них организовывались своего рода артели, и они работали уже без стражи... Часть офицеров попала на Столбы, где и занималась валкой леса и рубкой дров.
…Однажды я зашел к австрийцам и в разговоре спросил: "Как вам нравятся наши Столбы". Один из них, хорошо говоривший по-русски, сказал мне: "Если бы такая красота была у нас, то ее бы огородили золотой оградой".
"Следовало бы им поучиться у Буденного"
Заручившись поддержкой директора Красноярского музея Аркадия Тугаринова, Яворский пытался добиться для Столбов охранного статуса. 10 апреля 1920 года Енисейский губревком запретил рубку леса и ломки камня в районе Столбов, они были объявлены "защитной лесной площадью". "С этого момента как будто кончалась та анархия, которая породила безжалостную эксплуатацию столбовского леса. Это начало. Надо было думать о большем заповедном участке и о полном заповеднике", – писал Яворский в дневниках.
Добиться создания полноценного заповедника удалось лишь 30 июня 1925 года, когда на основе подготовленного Яворским проекта охраны было принято постановление об образовании заповедника "Столбы" площадью 3630 десятин. Автор проекта стал первым директором заповедника.
Из воспоминаний основательницы "Живого уголка" в заповеднике "Столбы" Елены Крутовской:
"Первому Директору, подобно Богу Саваофу, пришлось взять на себя сотворение заповедника не из первозданного хаоса, а что гораздо хуже в месте, которое все окрестное население издревле считало своей охотничьей и ягодной вотчиной, где веселая и бесшабашная молодежь давно уже установила свои собственные законы – неписаные законы столбовской вольницы.
Помогло Первому Директору то, что он сам был столбистом, своим этому веселому братству, и, самое главное, человеком, непоколебимо уверенным в правоте своего дела".
Яворский смог не только призвать к порядку вольное племя столбистов, но и превратить их в опору администрации заповедника. Оставалось разобраться со случайными посетителями Столбов, которые привыкли считать их законным местом для сбора ягод и грибов, заготовки шишек, серы и черемши, а также для проведения пикников.
Из воспоминаний Елены Крутовской:
"Больше всего нарушений в заповеднике производили самые, казалось бы, дисциплинированные люди – военные, приезжавшие сюда целыми подразделениями: с лошадьми, походными кухнями, грохочущими оркестрами и прочими воинскими атрибутами, и оставлявшие после себя мерзость и запустение, как после татарского набега. Все попытки Первого Директора пресечь эти нарушения кончались неудачей...
Неизвестно, чем бы кончилось это неравное единоборство, если б однажды … Яворского не осенило: сел он за письменный стол и написал заметку в газету "Красноярский рабочий". В заметке живо и красочно рассказывалось, как в годы Гражданской войны Буденному, преследовавшему беляков, лег на пути сказочный заповедник "Аскания Нова". И у прославленного красного командира не поднялась рука на это чудо – отдал Буденный приказ обойти заповедник. А вот наши военные начальники не уважают законы своей страны, не берегут свой заповедник – жемчужину Красноярска. "Следовало бы им поучиться у Буденного", так кончил Первый Директор свою заметку. Заметка эта была напечатана.
"Сижу я у Нелидовки. Костерок развел. Чай кипячу… Вдруг шум. Выхожу. С горы несколько военных. Подходят. Козыряют. "Вы директор заповедника?" – рассказывал Яворский.
Я стою перед ними – рубаха распояской, галоша на правой ноге белой вязкой крест-накрест привязана, на левой – черной. (Так мы тогда ходили). Вид, конечно, не очень… директорский! Переглянулись и под козырек: "Где, товарищ директор, разрешите остановиться нашей части?"
Яворский начал бороться с браконьерами, организовал противопожарную охрану заповедной территории, положил начало ее научному изучению. Все это требовало огромных усилий и времени, часто в ущерб семье. "Однажды отец подсчитал, что 265 дней из 365 он провел на Столбах", – вспоминала дочь Яворского Алевтина Павлова.
"Город в эту пору казался нам каким-то страшным"
Работу в заповеднике Яворский совмещал с работой в музее, участвовал в экспедициях на Ангару, Подкаменную Тунгуску, Чулым, Кан, Манское Белогорье, в Туруханский край. Одновременно был секретарем базировавшегося при музее Географического общества. А еще успевал преподавать географию и ботанику в красноярских школах.
Своих учеников Яворский водил в походы на Столбы. Так он стал первым наставником будущих знаменитых альпинистов братьев Абалаковых. "Простую мальчишескую страсть лазать по головоломным стенкам он превращал в нечто большее – в своеобразную азбуку человеческих отношений. Мы узнавали, что такое дружба, мужество, что такое доброта", – вспоминал Виталий Абалаков. Забравшись однажды на высокую скалу, он никак не мог спуститься: "Я остро ощутил, что единственная ниточка, связывающая меня с жизнью – вера в меня этого человека и его моральная поддержка. Растеряйся я тогда, раскисни – и неизвестно, чем бы все кончилось. Он давал мне команды снизу, и я, наверху, чувствовал его спокойную волю. Ту самую выработанную, тренированную волю, которой у меня еще не было. До сих пор считаю, что Яворский спас меня".
Заповедник "Столбы" изначально был создан как часть краеведческого музея. В 1933 году в музее сменилось руководство, и Яворский был вынужден уйти не только из музея, но и из заповедника.
Из книги Яворского "Избушка "Дырявая":
"В 1933 году наши взгляды на постоянство столбовских посещений изменились, и мы перестали ходить на Столбы. Началось все с меня. После смерти (застрелился) директора музея Соболева я был избран коллективом временным директором. Еще в 1930 году музей переехал в свое новое здание (где находится и сейчас) в египетском стиле, на берегу Енисея.
Вскоре из Омска был переведен лесотехнический институт и научно-исследовательский институт леса. Директор этих двух институтов потребовал новое здание музея под институты, а мы только начали в нем экспозицию своих богатых коллекциями отделов. Произошло столкновение интересов двух культурных учреждений. Дело кончилось назначением дважды директора Носова еще и директором музея. Несогласие мое было причиной моего ухода из музея, а т.к. заповедник "Столбы" был в ведении музея, то я ушел и из заповедника и перестал ходить туда…"
С 1934 года Яворский преподавал в пединституте, где с 1936 года возглавил кафедру ботаники, параллельно был преподавателем ботаники и фитопатологии в Сибирском лесотехническом институте. Готовился к защите диссертации по микологии. Однако вся эта бурная деятельность не помогала отвлечься от происходящего в стране. Спокойствие приносили только Столбы.
Из воспоминаний Яворского:
"Преподавательская работа была напряженной, но помимо этого были и другие сложности. Надо было следить за собой, как бы не сказать ничего лишнего. Лекции надо было продумывать не только логически, но и политически. Вообще-то было трудное во всех отношениях время.
…Мы особенно зачастили в избушку над Иваховым ложком и здесь мы обретали покой и душевное равновесие. Город в эту пору казался нам каким-то страшным. Как мы были рады, когда, поднявшись из ложка с водой к избушке, встречали друг друга, ведь мы не виделись пять дней, а что могло за эти пять дней произойти? Очень и очень многое. Уже не было на своих местах многих самых обыкновенных простых людей, соседей и близких знакомых…"
В августе 1937 года Яворский взял отпуск и один надолго ушел на Столбы. Когда закончились продукты, вернулся в город пополнить запасы. Заходить домой не решился, навестил лишь знакомую, от которой узнал, что за ним приходили. "А это значит, как и у всех, к кому приходили, их и уводили", – вспоминал он.
Яворский попробовал обмануть судьбу – снова надолго ушел на Столбы. А когда вернулся, узнал, что на родной кафедре уже никого нет. "Начал читать лекции по всем пяти ботаническим дисциплинам, около 10-11 лекций в день", – писал Яворский.
"Настаивал на создании диверсионных групп"
22 сентября 1937 года Яворского арестовали прямо во время лекции. Собрать вещи не дали. Обвинили в подготовке покушения в Кремле, а заодно и в шпионаже в пользу Японии. Яворский категорически отрицал все эти бредовые обвинения.
Из заявления Яворского о пересмотре дела на имя Прокурора Красноярского края от 1954 года:
"Обвинялся я в тяжелом преступлении, убийстве 5-6 вождей, с каковою целью якобы собирал в Красноярске молодежь на "Столбах"… Вторую группу я собирал на железной дороге. С ними я, по мнению следователя, должен был ехать в Москву для совершения террористического акта.
Следующий допрос уже была новая версия обвинения. "Я не убил вождей, а я знал об этом и не сказал кому надо, т.е. следственным органам".
Еще дальше новая версия. Я убивал вождей, но не в Москве, а в Красноярске... Кроме того мне было предъявлено обвинение, что я продал Сибирь Японии..."
Яворский держался стойко, отказывался признавать свою вину. Следователю ничего не удавалось от него добиться.
Из воспоминаний Алевтины Павловой, дочери Яворского:
"…отца изматывали ночными допросами и никак не могли в чем-либо обвинить. Некоторое время допрашивали, затем отводили в камеру и, как только он засыпал, снова вызывали на допрос, и так по нескольку раз в ночь. Следователи в течение ночи меняли друг друга... На очередном допросе следователь, разнервничавшись, крикнул отцу: "Да неужели ты никогда не рассказывал контрреволюционных анекдотов?", на что отец ответил: "Да уж не помню, может, и рассказывал". На этом допрос прекратился, и больше отца не вызывали".
8 декабря 1937 года тройка НКВД Красноярского края приговорила Яворского по ст. 17, 58-8 и 58-10 УК РСФСР к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с правом переписки.
Из обвинительного заключения по делу Яворского:
"Следствием по делу установлено, что ы 1917 году ЯВОРСКИЙ, будучи эсером, вступил в организацию "Сибобластников", занимал в организации руководящую роль, боролся против установления в Сибири Советской власти…
Являясь участником антисоветской террористической организации, ЯВОРСКИЙ присутствовал на проводимых нелегальных сборищах, где вносил предложения о взятии решительного курса на террористическую деятельность против руководителей партии и Сов. правительства, а также настаивал на создании диверсионных групп..."
Яворского отправили по этапу в 4 лагерное отделение Вятлага. Родные пытались передать ему теплые вещи, но им не разрешили этого сделать.
Из письма жене от 21 октября 1938 года:
"Ты, Дуня, пишешь, чтобы о себе похлопотал. Не знаю как к этому и приступить. Я не сужден, т.к. суда не было, а 10 лет мне дала тройка НКВД в виде изоляции. Так на что я буду жаловаться и чего просить, я никак не могу сообразить, а поэтому я молчу. … Единственно, по-моему, можно просить, о назначении на работу по специальности, но едва ли это к чему-либо приведет".
С арестом Яворского закончился и "золотой век" столбизма. Жизнь там замерла, десятки избушек и стоянок были сожжены или разрушены как рассадники антисоветчины. А те из столбистов, кому удалось уцелеть в годы Большого террора, не рисковали появляться на Столбах.
"Авось я и выживу"
Несмотря на немолодой уже возраст, в Вятлаге Яворского назначили на общие работы. На лесоповале он всего за два месяца потерял здоровье и был переведен в слабосильную команду. Его поддерживали лишь посылки из дома и воспоминания о красоте сибирской природы.
Из письма жене и дочери от 2 февраля 1839 года:
"Все интересы у меня здесь сводятся к сегодняшнему дню, а остальное все нереальное, потустороннее, мечтательно-несбыточное и о нем лучше и не думать. … Здоровье мое относительно ничего, хотя отхаркивание зеленых лягушек все время продолжается. … Как слабосильный я получаю ежедневно сухари по 100 грамм и 3½ куска пиленых сахара. Я, проще говоря, в тепле и не голоден, так что не волнуйтесь. Нет одного – это жиров. Их при случае пошлите в любом виде…
Ну, это у нас, а как Вы живете, мои дорогие родичи? Живите полной жизнью, ибо жизнь одна, я уже прожил свою жизнь. ... Ну, живите мирно и спокойно и пишите о себе ... Пошлите несколько фото из природы и несколько открыток художников. Крепко целую всех Вас".
Дочь Яворского Алевтина рассказывала, что от ночевок на снегу отец не чувствовал ног, от цинги искривились челюсти и выпали зубы. В добавок ко всему Яворский заразился туберкулезом. Он уже думал последовать примеру товарищей по заключению, которые от отчаяния бросались в котлы с кипящей водой, чтобы разом покончить счеты с жизнью… Яворского спасли Столбы: он задумал написать поэму о любимых скалах, на которых помнил каждый "карман", каждую щель.
Из письма жене и дочери от 1 апреля 1939 года:
"Да! Забыл о здоровье написать. Его можно выразить двумя словами: "Видимо здоров".
Недавно видел во сне, что я в избушке и так оно хорошо, что и просыпаться не хотелось. … Вообще, мы как пожизненные зека живем только во сне или в мечтах".
Сильный, выносливый мужчина, который месяцами жил один в тайге и без страховки поднимался на отвесные скалы, быстро превратился в "доходягу", инвалида. Долго бы он не протянул, если бы не счастливый случай: когда Яворский попал в госпиталь, его оставили работать регистратором и дежурным ночной смены. А когда выяснилось, что он умеет обращаться с микроскопом, взяли в лабораторию клинического анализа.
Как только Яворский хоть немного окреп, он попросил родных тратить меньше денег на посылки в лагерь.
Из письма жене и дочери от 8 марта 1939 года:
"Недавно (1 марта) я получил Вашу посылку, за что великое спасибо! Все кстати, особенно жиры. … Теперь принципиальный вопрос о посылках. За год я получил их 12, т.е. в месяц одну, это большая помощь. Можно сказать, Вы меня спасли от смерти. Еще раз 1000 спасибо. Теперь надо сократить посылки до 6 в год, а то Вы с ними сами ноги протянете. Стоят они, проклятые, дорого. Итак, договорились. На 1939 год я от Вас получу 6 посылок. … Чего в них мне надо – жиров и только. Откуда взять вам деньги – продавай, пожалуйста, все, что видят глаза из моих вещей…
…Как мои дела, а вот как: живу я все там же и служу там же. На днях меня перевели из слабосилки в инвалиды. … Общее состояние здоровья ничего, но откашливания идут все время ... Опухоль почти кончилась. Проще говоря, когда есть жир, дело идет на улучшение. Зиму перезимовал, что скажет весна, вот почему я и прошу к 1-му мая мне послать какого-нибудь жира, авось я и выживу.
Как бы то ни было, а я иногда мечтаю, а вдруг да скажут: "А ну-ка, Ал. Леопольдович, на волю"… Все мои мысли по этому поводу или около избушки над Калтатом или на Боровском озере. Здесь бы я поживал свое немногое, уж на пропитание я бы себе добыл кусочек хлеба. Но это мечты, а действительность = 8 лет и 6 месяцев с маленьким гаком.
… ни о каких льготах мечтать нельзя, также как и об освобождении. Однако я не унываю, что впереди я не знаю, но веду наблюдения над погодой, измеряю 3 раза в день температуру, воздуха и уже за 2½ месяца вычертил кривую, авось это кому-нибудь да пригодится, ведь будут же после нас здесь жить живые люди".
Из письма жене от 13 мая 1939 года:
"Из писем я вижу, что жизнь у вас дорогая, а здоровье твое пошатнулось, так что подумай о себе и Але и мне сократи посылки до 4-х в год, т.е. я две в этом году получил, значит пошли еще две небольшие".
Как лаборанту, Яворскому разрешили носить очки. Получив от родных посылку с очками, он сразу же приступил к осуществлению своего замысла – начал писать поэму о Столбах, в которой мысленно поднимался с друзьями-столбистами на все любимые скалы по очереди. Он посвятил отдельные главы каждой из них. Эти воспоминания поддерживали в нем интерес к жизни.
Из писем жене и дочери от 7 и 24 июля 1939 года:
"Вчера, т.е. 6-го я получил от Вас посылку № 4. Эта пришла целиком вся. Чего-то щедро и много Вы прислали, особенно жиров. Большое и большое спасибо за Вас. С удовольствием пробежал газетки "Красноярского рабочего". Красноярцы по-прежнему удирают от пыли города в природу. Рад за них. Поприветствуйте за меня Столбы, Базаиху и др. окрестности. … Воображаю, какой сейчас Енисей. Я здесь скучаю взглядом за горами и водой. Я теперь вполне понял, почему люди восхищаются садиком и прочими придомашними усадебными удобствами. Потому что у них нет гор, нет реки.
…Вспоминаю букеты наших сибирских цветов, здесь их нет. … Ты спрашиваешь, много ли у нас в тайге шишек? У нас здесь и кедра-то нет ни одного, и о нем никто не знает.
…Здоровье мое по-старому остается с отметкой 3.
Напиши, что рисует дядя Митя (Каратанов – прим. С.Р,), была ли выставка художников. Что нового выставлено в музее. Пришлите мне из моих книг "Лесная фитопатология" – Ванина".
Яворский освободился из Вятлага 22 мая 1947 года "по отбытию срока наказания". Он вернулся в Красноярск с туберкулезом в открытой форме. С собой привез деревянные ящики с изготовленными в лагере картинами из листьев и густо исписанные стихами тетради – поэму о Столбах.
Его снова взяли на работу в краеведческий музей и в опытное лесничество Лесотехнического института. И, конечно, все свободное время он снова проводил на Столбах. Но передышка оказалась короткой – всего один год.
Еще из Вятлага Яворский писал родным: "Жить в Красноярске даже в случае освобождения не придется, так как не дадут злые люди", – и оказался прав. Во второй раз его арестовали 31 декабря 1948 года прямо в музее. Новый год он встретил в камере внутренней тюрьмы УМГБ.
"Вы где такого нам ходока "откопали"?
Яворскому снова предъявили те же самые обвинения, что и в 1937 году. "Я же за то уже отсидел?!" – удивлялся обвиняемый на допросах. "Это не важно" – отвечал следователь Чертищев и продолжал задавать точно такие же вопросы, что и 11 лет назад. Яворский снова все категорически отрицал.
13 апреля 1949 года Особое совещание при МГБ СССР по статьям 19-58-8, 58-10 и 58-11 УК РСФСР приговорило Яворского как бывшего эсера, "участника антисоветской террористической организации" к бессрочной ссылке. К обвинению добавили и то, что он не стал молчать об ужасах сталинских лагерей.
Из обвинительного заключения по делу Яворского:
"Возвратившись из лагерей (по отбытии наказания за антисоветскую деятельность) ЯВОРСКИЙ в период 1947-48 г. высказывал свои антисоветские настроения, клеветал на карательную политику Сов. правительства".
Местом поселения было определено 1-е отделение совхоза Таежный в Сухобузимском районе, принадлежавшего Норильлагу.
Из воспоминаний краеведа и журналиста Мечислава Трухницкого, друга Яворского:
"Еще один интересный штрих в его биографии (он мне как-то рассказал это). Перед высылкой дали несколько часов на сборы. Денег не было. Он взял очень редкий экземпляр миниатюрного издания басен И.А. Крылова, подаренный ему Г.В. Юдиным (знаменитый красноярский библиофил – прим. С.Р.), и понес его в музей. Директор музея З.К. Глусская (ее он, кстати, считал причастной к своему аресту) выдала ему за этот раритет сумму денег, которой едва хватило на покупку булки хлеба в коммерческом магазине".
На этот раз заключенного решили использовать по специальности: Норильлагу были очень нужны скороспелые сорта картофеля, чтобы его можно было успеть вырастить и доставить в Норильск до конца навигации. Яворскому было велено заняться селекцией на опытном поле Мингуль.
В "вечной" ссылке Яворский провел 5 лет, до 26 августа 1954 года. Выйдя на свободу, несмотря на все проблемы со здоровьем, он яростно добивался реабилитации.
Из заявления Яворского о пересмотре дела на имя Прокурора Красноярского края от 1954 года:
"Мне сейчас 66 лет, здоровье мое все же к таким годам подорвано, но будучи и ранее жизнерадостным, я таким остался и до сего времени. Очень люблю природу… Хотелось бы последние годы жизни кончить, каким я был и каким остался, и во всяком случае не с кличкой преступника. Это и заставило меня подать заявление о пересмотре дела и реабилитации".
15 мая 1956 года Военный Трибунал СибВО прекратил дело против Яворского "за отсутствием в его действиях состава преступления". Но даже после этого он продолжал носить клеймо "врага народа". Его работы не публиковались, а имя было под запретом. Так, когда в 1960 году "Красноярский рабочий" посвятил целую страницу 35-летнему юбилею заповедника "Столбы", о первом директоре в ней не было сказано ни слова, хотя все знали, что он жив и продолжает изучать природу Столбов. Лишь в 1971 году в 8-м выпуске "Трудов красноярского государственного заповедника" было опубликовано исследование Яворского, посвященное трутовым грибам, обнаруженным на заповедной территории. Автор ни слова не упомянул о свой судьбе, о ней говорит лишь одна строчка в предисловии: "Материалом для работы послужили сборы трутовых грибов с 1916 по 1937 гг. и с 1947 по 1948 гг."
Выйдя на пенсию, Яворский продолжал писать стихи и создавать картины из листьев. Его работы выставлялись на художественных выставках в Москве и Ленинграде, побывали в Брюсселе и Париже. Он собирал материалы по истории Красноярска, составил хронологическую летопись города с августа 1628 года по август 1928. Описал традиции столбистов и историю столбовских избушек и стоянок. Разыскал множество безымянных могил декабристов на красноярских кладбищах и на свои деньги заказал для них таблички. Зарисовывал и описывал уникальные резные ворота. А когда начался массовый снос деревянного Красноярска, успел сфотографировать все самые интересные дома и описать историю их владельцев.
Все свободное время Яворский по-прежнему проводил на Столбах. До последних дней жизни без страховки поднимался на отвесные скалы, а когда отдыхал, сидел и курил на корточках, по-зэковски.
Из воспоминаний Михаила Кириллова, декана биолого-географического факультета красноярского пединститута, куда Яворского приглашали для проведения полевой практики со студентами:
"Приходят однажды ко мне студенты и "жалуются" на Яворского: "Вы где такого нам ходока "откопали"?
– В чем дело? – спрашиваю у них.
– Да мы просто за ним не успеваем идти!
– Вот как! А ведь Александру Леопольдовичу далеко за 70".
Александр Яворский умер 7 апреля 1977 года и был похоронен в Красноярске, на Бадалыкском кладбище.