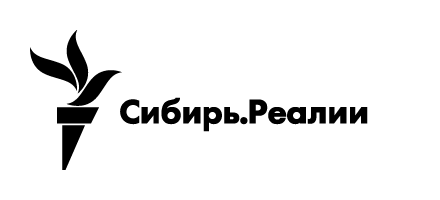22 февраля 1938 года скончался Рихард Фасмер, родной брат составителя знаменитого этимологического словаря русского языка Макса Фасмера. Он был не менее талантлив и стал крупнейшим русским специалистом по восточной нумизматике. Но судьба братьев сложилась по-разному: Макс после прихода к власти большевиков эмигрировал из России и прожил долгую жизнь, а Рихард остался и погиб в ГУЛАГе.
Чтобы не пропускать главные материалы Сибирь.Реалии, подпишитесь на наш YouTube, инстаграм и телеграм.
В 1932 году Советский Союз приступил к инфраструктурному проекту, который так и останется крупнейшим до самого конца его существования – строительству Байкало-Амурской магистрали. В статье Максима Горького "О воспитании правдой" впервые прозвучала аббревиатура БАМ. Проложить тысячи километров путей через безлюдные земли – задача, за которую не брались вольнонаемные рабочие. Поэтому обеспечить стройку рабочей силой поручили ОГПУ. Так появился Бамлаг – особый лагерь в системе ГУЛАГа, где условия были ужасающими даже по гулаговским меркам.
В Бамлаг прибывали по этапу тысячи заключенных. Но валить деревья или дробить щебень на пятидесятиградусном морозе – это далеко не все, что было нужно, чтобы проложить железную дорогу. Машина Большого террора еще не заработала в полную силу, пока она перемалывала в основном зажиточных крестьян, поэтому лагерному начальству остро не хватало образованных людей. И когда в Бамлаг этапировали профессора Эрмитажа Ричарда Фасмера, его тут же назначили работать в канцелярии.
По сравнению с общими работами, это было во всех смыслах теплое местечко. Любой зэк был готов на все, чтобы оставаться в отапливаемом помещении, а не снова махать киркой на морозе. Поэтому лагерное начальство ни секунды не сомневалось, что Фасмер будет вести документы так, как ему скажут: надо приписать выработку – припишет, надо уменьшить людские потери – уменьшит. И какого же было их удивление, когда Фасмер не просто отказался участвовать в махинациях, а пригрозил: он расскажет, что тут происходит, при первой же проверке. Лагерное начальство было настолько ошарашено, что даже не решилось отправить Фасмера на общие работы – вдруг выживет и действительно обо всем расскажет. Вместо этого от него поспешили избавиться и отправили по этапу в Узбекистан, как можно дальше от Бамлага. Там через четыре года Рихард Фасмер умрет от воспаления легких и будет похоронен в земле куфических кладов, которыми занимался всю свою жизнь.
Его старший брат Макс Фасмер, уехавший из России после прихода к власти большевиков, узнает о смерти Рихарда лишь после окончания Второй мировой войны. Он эмигрирует из Германии в Швецию, и обе части расколовшейся страны будут зазывать его к себе. Университет в Восточном Берлине предложит небывало выгодные условия, лишь бы заполучить Фасмера обратно. Но он выберет Свободный университет в Западном Берлине, чтобы быть вне досягаемости советской власти, уничтожившей младшего брата.
"Делайте вашу русскую революцию не столь громогласно"
Братья Фасмеры были немцами по национальности, но появились на свет в Петербурге: 15 февраля 1886 года родился Макс, а 9 октября 1888 года – Рихард. Их отец, купец Рихард Юлий Фридрих Фасмер, переселился с женой Амалией в Россию в конце XIX века из небольшого города Альтоны, расположенного неподалеку от Гамбурга. Даже прочно обосновавшись в России, семья долго сохраняла германское подданство. Оба сына были крещены в евангелическо-лютеранской церкви Св. Екатерины.
В 1903 году Макс поступил в знаменитую немецкую гимназию Карла Мая. Через три года "майским жуком" – так называли учеников этой гимназии, – стал и Рихард. Он учился лучше старшего брата: парадокс, но будущему автору этимологического словаря русского языка не очень давался этот язык – в выпускном аттестате в графе "русский язык и словесность" у него стоит 3. Рихард же окончил гимназию с серебряной медалью. Поступил на философский факультет Лейпцигского университета, но через год вернулся в Россию и выбрал арабско-персидско-турецко-татарское отделение факультета восточных языков Императорского Санкт-Петербургского университета.
После окончания университета Рихарда пригласили работать в Эрмитаж над инвентаризацией восточных монет. 24 сентября 1910 года он получил российское подданство и в тот же день был принят в Эрмитаж помощником хранителя богатейшей нумизматической коллекции музея. Макс принял присягу и стал гражданином России на три года раньше – 7 мая 1907 года, в год окончания университета.
Удивительно, но знание арабского, персидского, турецкого и татарского языков показалось молодому коллежскому секретарю Рихарду Фасмеру недостаточным. Едва получив диплом, он подал прошение на имя ректора университета с просьбой зачислить его "в число вольнослушателей факультета восточных языков разряда еврейско-арабско-сирийского".
Такой набор восточных языков превратил Рихарда в поистине уникального специалиста. Арабские монеты, найденные на огромной территории российской империи и хранившиеся в Эрмитаже, не были каталогизированы – и, пожалуй, только Фасмеру было под силу решить эту сложнейшую задачу. Ведь помимо длинного списка восточных языков, которые он изучил в университете, он великолепно владел еще древнегреческим, латынью, иранским, турецким и несколькими новыми европейскими языками.
За несколько лет Фасмер подготовил к печати восьмитомный каталог куфических монет Эрмитажа – то есть монет, надписи на которых были сделаны старейшим арабским шрифтом, тем же, которым Магомет писал Коран. 3 января 1914 года Фасмеру был присвоен чин титулярного советника. Теперь он заведовал уже всем монетным отделом Эрмитажа. А 26 октября того же года он женился на подданной Германии Алиде Нипп.
Когда Россия вступила в Первую мировую войну, Фасмер счел своим долгом принять участие в защите новой родины. Он окончил Николаевское инженерное училище и был направлен в мотоциклетную мастерскую, работавшую в тылу.
Когда большевики захватили власть в стране, старший из братьев Фасмеров был профессором кафедры индогерманского языкознания и славянской филологии Саратовского университета. Он был бесконечно далек от политики: в 1905 году еще студентом Петербургского университета, Макс Фасмер умолял своего однокурсника, члена РСДРП Дмитрия Мануильского, "делать вашу русскую революцию не столь громогласно: мешаете же готовиться к сессии". Но представители новой власти быстро заставили профессора задуматься об эмиграции: 8 ноября 1917 года в дом Макса Фасмера ворвались 8 вооруженных людей и под предлогом поиска вооруженного бандита устроили настоящий разгром, украли коробки с вином и вещами. После этого Фасмер уехал в Финляндию и решил больше не возвращаться ни в Саратов, ни в Россию в целом. Он устроился на работу в университет Тарту, в 1921 году переехал сначала в Лейпциг, а в 1925 году – в Берлин.
"Изменил сам подход к изучению кладов"
Рихард Фасмер остался в России. Не последнюю роль в этом решении сыграло то, что мать братьев Фасмеров Амалия не хотела покидать Петербург, где прошла вся ее жизнь и где был похоронен ее муж.
Весной 1918 года Рихарда демобилизовали, и он вернулся в Эрмитаж, где был назначен хранителем отдела восточной нумизматики, а с 1920 года – главным хранителем этого отдела. В 1925 году в Эрмитаже под руководством Фасмера прошла первая в СССР выставка монет Востока. После этого он полностью сосредоточился на научной деятельности.
До ареста Фасмер успел написать свыше 50 работ по восточной нумизматике. Они публиковались не только в СССР, но и в ведущих нумизматических изданиях Вены, Таллина, Мюнхена, Хельсинки, Бомбея и т.д. Фасмер писал статьи для английской и немецкой версий "Энциклопедии ислама", участвовал в подготовке важнейшего "Словаря нумизматики", изданного в 1930 году в Берлине. В 1929 году Фасмера избрали иностранным членом Шведской королевской академии словесности, истории и древностей. А в 1932 году он стал профессором Эрмитажа.
– Больше всего Рихарда Фасмера интересовали куфические монеты. Он изучил все основные клады арабских дирхемов, найденные в Восточной Европе, и многие сделанные им описания до сих пор остаются непревзойденными, – рассказывает доктор исторических наук, археолог Ярослав Романов (имя изменено из соображений безопасности). – Но главная заслуга Рихарда Фасмера в том, что он изменил сам подход к изучению кладов. До этого они рассматривались исключительно как случайное собрание монет. А Фасмер перестал считать их бессистемными, предложил видеть в них отражение исторических закономерностей того или иного периода. Этот подход позволял определить по составу находки примерное время ее формирования. До сих пор принята в науке – конечно, с некоторыми уточнениями, – и разработанная Фасмером периодизация обращения в Восточной Европе куфических дирхемов. Недаром академик Игнатий Юлианович Крачковский называл Фасмера "нашим крупнейшим знатоком восточной, особенно мусульманской, нумизматики". И если бы работа Фасмера в этом направлении не была насильственно прервана, он мог стал ведущим мировым специалистом по восточной нумизматике.
"Связь с представителями фашистской партии Германии"
За Рихардом Фасмером пришли 10 января 1934 года. Сотрудник ОГПУ Шубин, производивший обыск и арест, опечатал "два ящика в буфете: в одном – 123 серебряных предмета и золотые карманные часы, во втором – 9 серебряных предметов". Больше никаких ценностей в профессорском доме обнаружить не удалось.
Рихард Фасмер оказался очень удобной мишенью для чекистов. Прежде всего, он не оборвал связи с братом Максом и другими родственниками, жившими в Германии. Рихард продолжал писать им письма и пытался помочь по мере возможности. Так, в 1933 году Макс Фасмер попросил брата получить в кирхе справку, подтверждающую его "арийское" происхождение. Эту справку с пометкой "к использованию в Советской России не подлежит" Рихард отправил Максу в Германию. Отношения с братом следствие вскоре квалифицирует как "связь с представителями фашистской партии Германии".
Макс Фасмер, в свою очередь, не только присылал Рихарду немецкие журналы, но и материально помогал семье младшего брата, который заботился о престарелой матери. Макс Фасмер еще с университетских времен был знаком с академиком Владимиром Вернадским, часто бывавшим в Германии в командировках, и передавал через него для матери по 100 рублей раз в два месяца. А когда Вернадский лишился возможности приезжать в Германию, Макс Фасмер договорился с академиком так: он будет передавать деньги дочери Вернадского Нине Толль, обосновавшейся в Праге, а Вернадский в Ленинграде будет отдавать точно такую же сумму Рихарду. Деньги, которые Макс Фасмер посылал дочери Вернадского в Прагу, следствие назовет "финансированием белой эмиграции". А деньги, которые Вернадский передавал Рихарду Фасмеру, будут считаться "финансированием подпольной контрреволюционной организации".
Не менее подозрительно выглядело и то, что в 1932 году в семье Рихарда бывала одна из сотрудниц немецкого посольства (по другим сведениям – сестра сотрудника посольства). Она училась в университете, где читал лекции Маск Фасмер, восхищалась его талантом и предлагала семье Рихарда Фасмера помочь с переездом в Германию. Эти визиты следствие объявит "передачей шпионских сведений".
"Путем диверсий, вредительства и шпионажа"
Фасмер стал одним из последних арестованных по сфабрикованному делу никогда не существовавшей "Российской национальной партии" (РНП).
– Это дело часто называют "Делом славистов", но это не совсем точное определение. Да, действительно, по нему проходили, в основном, представители гуманитарных наук – искусствоведы, этнографы, антропологи, лингвисты, филологи, музыковеды. Но многие арестованные – как, собственно, и сам Рихард Фасмер, – под определение "славистов" не подходили, – рассказывает историк Михаил Харченко (имя изменено из соображений безопасности). – Дело "Российской национальной партии" сфабриковал будущий "предатель Родины", а на тот момент заместитель начальника секретно-политического отдела ОГПУ Генрих Люшков. Он выдумал состоящую из представителей академических кругов фашистскую организацию, члены которой якобы намеревались свергнуть советскую власть и установить в СССР фашистскую диктатуру. Все это было настолько высосано из пальца, что даже само название "Российская национальная партия" было придумано лишь в самом конце следствия, в феврале 1934 года.
Рихарда Фасмера следствие объявило руководителем ячейки № 8, работавшей в Эрмитаже. Эта ячейка якобы собиралась вооружить музейным оружием украинских заговорщиков: "вела систематическую деятельность по насаждению к.р. ячеек на Украине и перебросила на Украину для снабжения организованных ячеек партию оружия, изъятого из Ленинградских Музеев (Артиллерийский и другие) в количестве более 400 единиц огнестрельного оружия". Сотрудников музея также обвинили в том, что они "вели широкую нац. фашистскую пропаганду панславистского характера, широко используя в этих целях легальные возможности научной и музейной работы". Для этого они якобы создавали экспозиции залов, посвященных русскому искусству дореволюционного периода, которые "тенденциозно подчеркивали мощь и красоту старого дореволюционного строя и величайшие достижения искусства этого строя".
Фасмер не смог устоять перед давлением сотрудников ОГПУ. Уже на втором допросе он признал, что "является членом контрреволюционной фашистской организации".
– Правда, протокол допроса написан не его рукой, а почерком оперуполномоченного Бузникова. Фасмер лишь поставил подпись под написанным Бузниковым текстом. При этом протокол первого допроса, последовавшего сразу же после ареста, написан почерком самого Фасмера, – отмечает Михаил Харченко. – Во время первого допроса следователь потребовал от Фасмера "всего лишь" перечислить имена всех, с кем он был дружен или просто знаком за все годы жизни. От него потребовали назвать не только имена всех коллег, но даже имена сторожей ночной охраны Эрмитажа и библиотекарей, а еще перечислить всех, с кем он в детстве играл в футбол или отдыхал на каникулах. Фасмер с этой не самой простой задачей отлично справился. Почему протокол второго допроса написан уже не его рукой – можно лишь гадать. Очевидных вариантов два: либо он не мог писать после "применения методов физического воздействия", то есть, проще говоря, пыток. Либо его заставили подписать заранее подготовленный протокол.
Макса Фасмера следователи объявили "национал-социалистом", а его младшего брата Рихарда – "передаточным звеном нелегальной связи между центром РНП с фашистскими кругами". То, что еще в 1928 году Макс Фасмер был избран иностранным членом Академии наук СССР, следствие проигнорировало.
Из протокола допроса от 20 января 1934 года:
"Организация русских и украинских фашистов, поддерживая связи с фашистскими кругами современной Германии через сеть славяноведческих институтов, в том числе через возглавляемый моим братом Фасмером Берлинский Славяноведческий институт, преследует задачу свержения советской власти и установления в стране фашистской диктатуры. Организация, в которую я вхожу, борется с Советской властью при помощи активных методов – путем диверсий, вредительства и шпионажа. … Моя роль в организации заключалась в том, что моя квартира в Ленинграде являлась явочным пунктом для лиц, приезжающих из-за границы с целью связи с нашей организацией и передачи ей директивных указаний, а также для сбора сведений шпионского характера".
"Стоит на позициях непризнания советского строя"
Генриху Люшкову было недостаточно объявить фашистом-заговорщиком самого Рихарда Фасмера. Его использовали, чтобы подобраться к куда более крупной фигуре – академику Владимиру Вернадскому. То, что Рихард регулярно посещал квартиру академика и получал деньги из его рук, выглядело очень перспективно.
Под давлением Фасмер оговорил не только себя, но и Вернадского. На очередном допросе он подписал показания, из которых следовало, что академик ненавидел советскую власть, глубоко симпатизировал фашистам и был главой всей подпольной контрреволюционной организации.
Из показаний Pихарда Фасмера от 5 февраля 1934 года:
"Вернадский рассказал мне свои впечатления о Германии. Он утверждал, что современная Германия вновь неудержимо расцветает, промышленность и торговля быстро развиваются и что там происходит мощный процесс политического оздоровления, который приведет к установлению в Германии твердой власти типа диктатуры. Особо восхищало Вернадского состояние немецкой науки, развивающейся, по его словам, в исключительно благоприятных экономических и политических условиях и достигшей в силу этого больших результатов. Напротив – советская наука, по мнению Владимира Ивановича, влачит жалкое существование, поскольку она связана с догмами казенной марксистской идеологии, с одной стороны, а с другой – не имеет материальной базы, которую не может дать для науки разоренная существующей властью страна. Уже из этой первой беседы с В.И. Вернадским было видно, что он стоит на позициях непризнания советского строя и питает чувства большой симпатии к современной Германии. Последнее очень расположило меня – как убежденного немецкого националиста – к Вернадскому и его семье.
… В основном мы обсуждали вопросы о тягостных условиях жизни и работы в современной России, о невозможности сохранения такого положения в дальнейшем, о принудительности труда и мысли в Советской России, о нищете и разорении страны и о возрастающем недовольстве всех слоев населения существующей властью, причем симпатии академика к Германии становились все более явными по мере того, как там росло и укреплялось фашистское движение. Из всех высказываний Владимира Ивановича вытекало, что он стоит на точке зрения необходимости смены существующего строя активными способами.
… Германофильская ориентация Вернадского и его убеждение в необходимости смены существующего строя при помощи Германии весьма импонировали мне".
– Справедливости ради надо отметить, что показания на Вернадского дал не один только Фасмер. Руководителем РНП назвал Вернадского славист Василий Кораблев, сотрудница Украинского отделения этнографического отдела Русского музея Мария Фриде и даже близкий друг Владимира Ивановича – гидрогеолог Борис Леонидович Личков. Измученный бесконечными допросами, когда ему сутками не давали спать, Личков не устоял перед угрозой репрессировать семью и признался, что именно Вернадский завербовал его в "фашистскую организацию". Личков также был приговорен к 10 годам лагерей, но через 5 лет был освобожден досрочно благодаря тому, что Вернадский многократно ходатайствовал об его освобождении, – рассказывает Михаил Харченко. – Судьба самого Вернадского решалась на самом высоком уровне, и арестован он не был. Почему – достоверно не известно. Одно из самых убедительных предположений состоит в том, что исследования Вернадского имели слишком большую практическую ценность. Поэтому его решили оставить на свободе, хотя все нужные показания уже были собраны.
Из спецсообщения Г.Г. Ягоды И.В. Сталину о "контрреволюционной" организации в научных институтах и Академии наук СССР от 26 февраля 1934 года:
"В Москве, Ленинграде, на Украине, в Азово-Черноморском крае и Западной области нами арестованы члены широко разветвленной фашистской организации, именующейся "Российская национальная партия". По показаниям арестованного Фасмера Р.Ф. (ошибка в отчестве – прим. С. Р.) – научного работника, зав. нумизматическим отделением Государственного Эрмитажа в Ленинграде, члена шведской археологической Академии, через его брата Фасмера Макса – директора славянского института в Берлине, активного фашиста, им и академиком Вернадским была установлена регулярная связь организации с немецкими фашистами.
… срывая и тормозя разрешение сапропелевой проблемы в СССР, организация одновременно через члена центра академика Вернадского передавала материалы по этому вопросу немецкому химику Потонье, члену Прусского геологического комитета…"
Всего же по обвинению в участии в РНП были репрессированы около 100 человек, больше всего – из Ленинграда.
Из заключения помощника прокурора Ленинградской области Виденека:
"… по делу привлечено 35 человек, преимущественно научных работников. … РНП являлась политическим блоком российских великодержавников и украинских националистов на платформе: а) рассовой теории панславизма, б) свержения советской власти и в) ориентации на интервенцию фашистской Германии. В Ленинграде раскрыты 14 ячеек "РНП" в ленинградских научно-исследовательских институтах, учреждениях Академии наук, гуманитарных учреждениях, музеях и научных обществах".
"Фальсификация дела путем вымогательства личных признаний арестованных"
Постановлением Коллегии ОГПУ от 29 марта 1934 года Рихард Фасмер был приговорен по пунктам 4, 10, 11 ст. 58 УК РСФСР к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Его отправили по этапу в Бамлаг, а оттуда за несговорчивость перевели в Узбекистан.
Когда арестовали мужа, жена Рихарда Алида работала помощником бухгалтера швейной фабрики имени Володарского. Она не слишком разбиралась в научных связях Фасмера, и уж, конечно, не могла знать, что на следствии он оговорил академика Вернадского. Поэтому Алида решила обратиться за помощью к Вернадскому как к самому влиятельному знакомому мужа. Она надеялась, что он поможет добиться для Рихарда разрешения работать в музеях Ташкента, где хранилось множество неразобранных монет.
Из письма Алиды Фасмер В.И. Вернадскому:
"Ричард Ричардович Фасмер находится в концлагере в городе Ташкенте и работает в Управлении Средне-азиатских лагерей. … Работает он в канцелярии на разных работах, как то: подшивка бумаг, курьерская разноска и т. д. Моя просьба заключается в том, чтобы мужа моего, как и многих других ученых, использовали бы по его специальности".
Вернадский попытался помочь и обратился к крупнейшему арабисту – академику Игнатию Крачковскому.
Из письма Вернадского Крачковскому от 15 июня 1935 года:
"Совершенно забыл – в спешной обстановке нашего свидания переговорить с вами о том, нельзя ли что-нибудь сделать для Р.Р. Фасмера. Он чрезвычайно, говорят, тяжело переживает свое заключение в Ташкенте. Говорят, там была бы ему работа по специальности – неразобранный нумизматический материал. Жена его говорит, что отзыв об его работе и просьба специалистов могут очень способствовать к его направлению на работу научного характера. Это очень бы облегчило его положение. Прилагаю ее письмо. Может быть, можно через кого-нибудь помочь лучшему использованию его знаний".
Спасти Рихарда Фасмера не удалось. 22 февраля 1938 года он скончался на пятидесятом году жизни от воспаления легких в Отдельном лагере трудового перевоспитания № 19 УМВД Узбекской ССР. По злой иронии судьбы, Фасмер упокоился в земле куфических кладов, которыми занимался всю жизнь. Все попытки найти место его захоронения окончились неудачей.
В 1956 году пятитомное дело "Российской национальной партии" было пересмотрено и признано сфальсифицированным сотрудниками Секретно-политического отдела ОГПУ: "…каких-либо объективных доказательств виновности лиц, привлеченных по делу, не имелось, а материалы дополнительной проверки свидетельствуют о фальсификации дела путем вымогательства личных признаний арестованных и оговора ни в чем не повинных лиц". 28 ноября 1956 года Фасмер и все остальные осужденные по ленинградскому делу РНП были реабилитированы постановлением Военного трибунала Ленинградского военного округа.
"Всегда ходил с двумя портфелями"
Макс Фасмер узнал о смерти брата только после окончания Второй мировой войны. Сотрудники ОГПУ оклеветали его, объявив фашистом, – Фасмер никогда не был членом национал-социалистической партии.
– Наоборот, с 1933 года Макс Фасмер примкнул к Bekennende Kirche – Церкви исповедания, то есть к той части протестантской церкви Германии, которая открыто противопоставила себя режиму Гитлера, – рассказывает доктор филологических наук Ирина Ковалева (имя изменено из соображения безопасности). – В кабинете Фасмера никогда не висел портрет фюрера, что само по себе требовало немалой храбрости. Когда у него спрашивали, почему нет портрета, Фасмер говорил, что не привык держать в кабинете ничего лишнего. За такой ответ можно было и в концлагерь угодить… А еще профессор Фасмер всегда ходил с двумя портфелями, чтобы были заняты обе руки и не нужно было отвечать на нацистское приветствие. Более того, Фасмер, рискуя сам оказаться за колючей проволокой, вызволил из концлагеря нескольких польских филологов и пристроил их работать к себе на кафедру. Так что все обвинения Фасмера в фашистских убеждениях просто смехотворны.
Все годы войны Макс Фасмер продолжал работать над этимологическим словарем русского языка. Изучать язык врагов фашистской Германии тоже было очень опасно.
К 1944 году профессор был близок к завершению многолетней работы. И тут произошла трагедия: 30 января 1944 года в дом Фасмера попала фугасная бомба, сгорели все записи, включая готовую картотеку для словаря. На то, чтобы восстановить ее, Фасмер потратит несколько лет. Это будет вдвойне тяжело, потому что из-за недостатка еды и отсутствия витаминов в послевоенной Германии он почти потеряет зрение. Ему придется эмигрировать в Швецию, чтобы окончательно не ослепнуть.
В 1949 году Фасмер вернулся в Западную Германию. А в 1950 году в Гейдельберге наконец-то начал выходить главный труд всей его жизни – трехтомный "Этимологический словарь русского языка", включающий 18 тысяч статей. Автор посвятил его отцу и репрессированному брату: "Памяти моего отца, купца из Альтоны Рихарда Фасмера (1853–1924) и моего брата, петербургского востоковеда Рихарда Фасмера (1888–1938)". Он пережил брата на 14 лет и скончался 30 ноября 1962 года.
В русском переводе словаря, начавшем выходить в 1964 году, уже после смерти Макса Фасмера, посвящение было снято. С тех пор ставший классическим словарь был перепечатан на русском языке десятки, если не сотни раз. Все перепечатки и сегодня продолжают публиковаться без авторского посвящения. А о Рихарде Фасмере напоминает разве что памятный знак, установленный в рамках проекта "Последний адрес" 26 октября 2017 года во дворе Эрмитажного театра на стене дома 32 по Дворцовой набережной, где он жил на момент ареста.