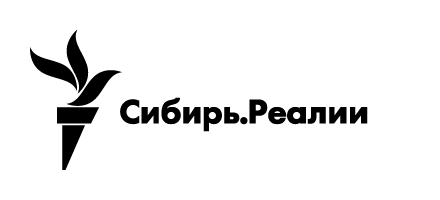Суд признал хабаровского уличного художника Максима Смольникова (Xadad) виновным по статье об оправдании терроризма и присудил ему 300 тысяч рублей штрафа за два поста во "ВКонтакте" о самоподрыве подростка Жлобицкого в архангельском ФСБ. Прокуратура просила отправить его на 5,5 лет за решетку.
В своих постах Максим Смольников говорил, что Михаил Жлобицкий совершил самоподрыв в здании Управления ФСБ по Архангельской области в 2018 году из-за репрессий и пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов России. Но при этом он подчеркивал, что не считает поступок подростка правильным и не оправдывает его. Смольников также комментировал уголовные дела, заведенные на нескольких россиян за комментарии об этом взрыве и последующими за этим действиями силовиков.
В мае 2021 года Смольникова задержали и отправили в СИЗО после обыска в его квартире. Он пробыл в изоляторе до сентября, после чего меру пресечения сменили на запрет определенных действий. За художником следили, предположительно, с апреля 2019 года, когда его в первый раз допрашивали по делу о взрыве в архангельском УФСБ.
Прокурор запросила для Смольникова 5,5 лет реального заключения. "Я была в шоке от кровожадности обвинения. Штраф, конечно, лучше заключения, но эта сумма для нас неподъемная. Будем просить помощи", – говорит жена художника Светлана Смольникова.
"В наших реалиях штраф сродни оправдательному, но я-то невиновен"
– В принципе в наших реалиях штраф – это, очевидно, близко к оправдательному приговору. Но начнем с того, что я не виновен, так как действия Жлобицкого не оправдывал, только рассуждал о причинах, что не сродни признанию его поступка правильным, – говорит Максим Смольников. – Такие дела в принципе не должны заводить. А если они возбуждаются, то должен быть оправдательный приговор, так как комментарий не равен призыву или оправданию.
Поэтому это решение [о штрафе] вызывает двоякие чувства. Я уже подал апелляцию на приговор в Верховный военный суд, потому что считаю себя невиновным, а мою якобы вину недоказанной. Как любой добропорядочный гражданин, я буду отстаивать свою невиновность до конца. Что даст апелляция, пока мы не знаем. Еще неизвестно, подала ли прокуратура со своей стороны апелляцию. Обычно при большой разнице между заявленным наказанием и приговором они подают в апелляционный. А тут – 5,5 лет заключения и штраф в 300 тысяч. Разница весомая.
Я не знаю, что в итоге повлияло, почему обошлось без реального заключения. Думаю, большое влияние на решение суда оказало то, что мы смогли последовательно и убедительно показать несостоятельность экспертов, которые были со стороны обвинения, и их экспертиз. Они были низкокачественными просто с точки зрения процессуальной, с точки зрения той методологии, которую сам Минюст требует от данных экспертиз.
– Например?
– Много различных нарушений на всех уровнях. Начиная с того, что никто из экспертов не включил как должно данные о своем образовании. А Минюст требует совершенно четко определенное базовое образование и определенную специальность у экспертов. Эти вещи игнорировались вплоть до того, что эксперт мог на суде или на допросе заявить: мол, у меня были просто опечатки в экспертизе по поводу моей специализации или – "мы не приложили данные, потому что забыли".
Сначала ходатайства мы подавали следствию, которое отвечало, что "не сомневается в экспертах" и даже не собирается их проверять.
Другой уровень нарушений – часть экспертов даже не знает границ того, что они имеют право делать как эксперты, и того, что не имеют права делать. Например, эксперты не должны самостоятельно добывать доказательства – только следователь во время следствия и потом суд. В нашем случае они решили, что могут самостоятельно лазить по сети, искать мои интервью, посты, мемы, рисунки, вносить эти данные в экспертизу, ссылаться буквально на тексты каких-то песен, которые сто лет назад я повесил на странице в ВК. И на основе этого делали пространные гипотезы о том, чему это посвящено.
Например, вот этот рисунок может быть посвящен Жлобицкому, эта песня может быть посвящена делу Жлобицкого. На вопрос – почему, собственно, вы делаете работу следователя и притягиваете за уши песни и картинки – они говорят, что мы это делаем для того, чтобы составить речевой портрет автора, но при этом тут же говорят о том, что этот речевой портрет не влияет на выводы экспертизы. То есть полное противоречие, которое показывает, что они не понимают методику в принципе.
Хотя методология по делам об экстремизме, терроризме довольно четко прописывает, как нужно действовать эксперту: составить так называемый комплекс лингвистический, психологический, они определенным образом друг друга либо подкрепляют, либо опровергают. Нужно действовать строго по методике для того, чтобы эта экспертиза считалась доказательством. В экспертизах со стороны обвинения этого не было – вместо этого там был пространный реферат на тему, что если автор [Смольников] говорит о причинах поступка [самоподрыва Жлобицкого] как вынужденных в силу каких-то обстоятельств, то значит оправдывает данные действия. При этом "автор" тут же пишет, "данные действия человека все равно не поддерживаю". То есть явно не оправдываю его. Но эту часть поста просто игнорируют, просто закрывают глаза.
Или просто берут картинку, которая была нарисована и опубликована в интернете еще за несколько лет до моего дела и самого подрыва, от 2014 года, и говорят, что эта картина посвящена "террористу Жлобицкому". Точно так же песня – слова подозрительные, значит, она посвящена Жлобицкому. Понятное дело, что это чушь, это просто хронологически невозможно.
Сам рисунок – "основа" уголовного дела – маленький ниндзя, один из моих персонажей, со старой бомбой в руках, что-то типа ядра пушечного, а рядом котик на столе сидит. Это рисунок примерно 2015 года. Он совсем на другую тему на самом деле. И железное доказательство – нарисован за несколько лет до этого подрыва.
– Раньше, как мы помним, это "прокатывало" и судьи принимали даже непрофессиональные экспертизы, которые противоречат сами себе.
– Мы видели, что раньше люди в принципе не очень-то защищались по данным статьям. Для того чтобы по-настоящему защититься, нужно, чтобы у обвиняемого были какие-то ресурсы, люди, которые помогут найти экспертов, что напишут, например, рецензии на текущие экспертизы от обвинения и сами проведут независимую экспертизу. Элементарно найдут адвокатов, которые будут не просто отбывать время в суде, а работать.
Вспомните, кого хватают по этим статьям – обычно это люди не очень состоятельные материально, неизвестные, без ресурса для того, чтобы эффективно защищаться. Первые экспертизы, которые нам делали, они не то что методологии не соответствовали, они вообще даже близко на нее не намекали. Судя по всему, до меня очень много людей получили свои чудовищные сроки именно "благодаря" таким экспертизам.
– То есть избежать заключения помогла огласка и возможность собрать на адвокатов, экспертов?
– Да, и поддержка семьи. У меня было два адвоката – правозащитник Константин Бубон от "Агоры" и адвокат Яков Пушкарев. Благодаря огласке, через сборы в том числе, мне насобирали на адвоката и на независимых экспертов.
Но они не сами вызвались, это Света, моя супруга, искала экспертов, которые могли бы провести независимую экспертизу. Двое из них даже приезжали в Хабаровск и выступали в качестве специалистов на суде. Собственно, их выступление на суде и рецензии относительно предыдущих экспертиз помогли нам в какой-то степени переломить отношение судей – судьи назначили повторную экспертизу судебную.
Примечательно, что в приговоре все это не отражено: он написан очень формально и повторяет мнение следствия. Если читать приговор, там нельзя углядеть сомнения в экспертной неквалифицированности, в целом очень обвинительный уклон, хотя и слабо обоснованный.
Например, те рецензии, которые писали наши эксперты относительно экспертиз стороны обвинения, и наша экспертиза независимая – их приложили к материалам дела, но они считаются "недопустимыми доказательствами", потому что они сделаны не по заявлению следователя, не по ходатайству следователя. Таким образом что нам говорит наше правосудие?! "Вы не имеете права в принципе защищаться!" – вы не можете сами заказывать экспертизы, а если вы их сделали, вне зависимости от их содержания и того, насколько они соответствуют методологии, они автоматически считаются недопустимыми доказательствами, потому что их сделали не по желанию следователей.
– То есть формально ваши экспертизы, другие аргументы не приняли в качестве доказательства, но они все же повлияли на решение судьи?
– Да. Особенно повлияло, что специалисты прилетели, сами выступили. Хотя бы слова экспертов все-таки приняли.
"Люди уже откликаются собрать деньги на штраф"
– Что со штрафом делать будете?
– Пока апелляция идет, поэтому мы сбор не объявляем.
Апелляция пройдет, там уже будет ясно. Многие люди уже, кстати, откликались, спрашивали про сбор, говорят, что помогут: "Ждем, когда вы его объявите". Так что не сомневаемся, что соберем сумму.
– Люди вас не забыли.
– Нет, люди не забыли. В Хабаровске протестное сообщество продолжает жить. И в целом по России люди знают, помнят.
Сложность в том, что мне запретили "быть в интернете" в течение двух лет. Поэтому я без соцсетей, без комментариев, без сторис в инстаграме. То есть о том же сборе сможет объявить только жена или адвокат.
– Вам нельзя было общаться со СМИ до приговора, хотя вы с сентября были дома. Но сейчас можете рассказать, как прошли эти полгода в СИЗО?
– Там совершенно отдельный мир. Полная изоляция. Человек там находится в состоянии полной неспособности себя защитить, потому что у него элементарно нет возможности почитать что-нибудь в интернете или даже в бумажном виде, чтобы понять, что происходит с ним, в чем его обвиняют. Нельзя найти адвоката самому.
Если человек туда попадает, он не может приложить никаких усилий для защиты, чтобы оправдать себя. Только люди, которые на воле остались, могут его как-то поддержать, организовать защиту. Там все это совершенно невозможно, потому что ты элементарно не знаешь, как написать заявление по каким-то бытовым вопросам, не знаешь, каковы правила твоего содержания. Не говоря уже о защите по выдвинутому обвинению.
– Все эти нюансы узнаешь через сокамерников, которые там чуть дольше находятся, как-то "вертятся". Там совершенно особый мир – преступные сложившиеся компромиссы с охранниками и прочие подобные вещи. Совершенно особенная ночная жизнь по поддержанию межкамерной связи и нарушению правил. Все эти нарушения позволяют человеку там более-менее достойно существовать. Например, обмениваться какими-то бытовыми вещами, которые там не найдешь и не купишь. Учитывая то, что многие люди там материально совершенно несостоятельны и у многих нет родных с воли, которые могли бы их поддержать, то элементарно купить зубную щетку в СИЗО становится проблемой.
Только нарушая внутренние регламенты, ты можешь, например, найти что-то, чтобы хлеб в камере нарезать, а не разрывать его руками. Или просто, чтобы тебе этот хлеб прислали с воли. Так как тот хлеб, который там делают, он воняет гнилью, его невозможно есть.
– Передать вещи тоже не так просто?
– Я не ем мяса. А там выбора нет, вся пища на животном жире. То есть невозможно найти что-то не пропитанное им. Поэтому я мог есть только то, что присылали с воли, – заваривал лапшу, картошку.
Целая эпопея, например, была с книгами. Есть в СИЗО библиотека, которую нахваливают СМИ, когда губернатор приезжает с так называемой проверкой. Его водят, показывают, какая у нас замечательная библиотека. А в ней книги взять нельзя, никому, она и существует только для того, чтобы губернатору ее можно было показать.
– Первые месяцы я бился просто за то, чтобы мне книгу передали. Их не допускали даже с воли. Несколько книг, которые Светлана передавала в СИЗО, до меня так и не дошли, они просто куда-то исчезли. Не какие-то "острые" издания, обычные. Их не заворачивали, просто никто ничего не объяснял. Как я понял, там нет в принципе какого-то организованного порядка, как можно бы было передавать книги. А раз порядка нет, значит, можно не делать, просто потому что до тебя там никому дела нет.
– Вообще, очень сильно от региона зависит и происходящее в колонии, и в изоляторе. Хабаровское СИЗО относительно изоляторов на западе России славится еще более-менее мягкостью условий. В том плане, что больше компромиссов, которые позволяют осужденным не в чрезвычайно угнетенном состоянии находиться, в отличие от каких-то колоний и тюрем западнее. В хабаровском СИЗО вроде как нет пресс-хат. По крайней мере пока я там был, не слышал. В отличие от благовещенского изолятора.
– Про них вам рассказывали более опытные сокамерники?
– Я лично видел людей, которые оттуда приезжали к нам. Видел, в каком они состоянии приезжали. Они, конечно, и сами рассказывали много чего, но повторить не могу – это личные истории и опасаюсь, привлекут за "клевету". Но если судить по их психологическому и физическому состоянию – было видно, что это люди травмированные, травмированные только что, незадолго до прибытия в хабаровский. То есть не при задержании, например.
"Хабаровский протест не разгромлен"
– Вы вышли на свободу относительную до приговора, в сентябре 2021 года. Обратили внимание, как город изменился, остались ли ваши граффити, например?
– Мои рисунки многие остались. Часть из них, правда, зачеркана какими-то местными фашистами молодыми, зарисована свастиками и прочими характерными для этой категории людей вещами.
Какие-то рисунки до сих пор есть. Появился даже мой портрет – рисунок моего знакомого. Плюс время от времени и сейчас в городе появляются надписи антивоенного содержания. Или, наоборот, "завоенного".
– Что вы почувствовали, когда узнали о том, что война началась?
– К тому времени было полгода уже, как меня выпустили из СИЗО. Не скажу, что прямо сильно удивился, был шок. Но задолго до февраля было ощущение тревожности, новости про переброску военных. И никто не знал толком, что у него в голове завтра щелкнет.
Конечно, ты находишься в ужасе от войны, но она скорее косвенно на тебя влияет. Только иногда непосредственно по тебе ударяет – знакомым, которого мобилизуют, конфликтом с родными или знакомыми из-за разных взглядов. Сколько историй, как отношения портятся на фоне войны, особенно у детей с родителями.
– У вас не было такого конфликта в семье?
– С некоторыми неблизкими родственниками есть разность взгляда на все это. У меня есть, например, двоюродный брат, который сейчас находится там [в Украине] на стороне российской армии. И есть множество друзей, знакомых, которые уехали из России, потому что не хотят во всем этом участвовать.
Максим говорит, что за последнее время и они с женой не раз задумывались об отъезде из России.
– Но сейчас осуществить его нереально – прежде всего из-за детей: у нас два сына от первого брака Светланы, а чуть менее трех недель назад родился третий сын. Об отъезде мы начнем думать более-менее серьезно, когда появится реальная возможность. Пока ее нет, переезд откладывается, – говорит Максим.
– Когда вы только вышли из СИЗО, еще были акции протеста против ареста Фургала. Сейчас хабаровский протест полностью разгромлен?
– Нет, не полностью. Протестующие на самом деле ежедневно продолжают устраивать пикеты. Каждые выходные у них небольшой какой-нибудь митинг или даже массовый пикет проходит. Участвует по несколько человек. И это происходит регулярно, изо дня в день кто-то да выходит, а на выходные и побольше людей.
– Они продолжают собирать на штрафы друг другу, оказывают какую-то взаимопомощь. Все это есть, оно не прерывалось ни на день. Да, в первые месяцы это были акции массовые, и в какой-то момент их подавили, а у людей накопилась некоторая усталость. Но остался костяк несгибаемых активистов, которые продолжают до сих пор протестовать. Причем эти люди меняются, в какие-то дни появляются новые. Но факт – появилось и живет теперь такое сообщество в Хабаровске. Молодцы, конечно. Как они помогают друг другу – это очень важно! В нашем атомизированном, разобщенном обществе когда какой-то незнакомый человек к тебе может подойти, оказать тебе поддержку и помощь – это многого стоит.
– Это феномен Хабаровска?
– Я не думаю, что протест существует только в Хабаровске. Знаю, что в Москве, например, тоже годами существуют небольшие сообщества. Например, по экологическому вопросу, по застройке какого-нибудь парка, по защите какого-нибудь памятника. Эти люди существуют, они кочуют из одной темы в другую.
Я думаю, что в Питере и в Москве гражданских активистов немало. И в городах поменьше они есть. Понятно, что сейчас все довольно сильно задавлено, протест стал тихим, когда за любое слово в интернете на тебя стало возможным статью навесить. Но люди же не исчезают, они просто становятся менее заметными. На время, – говорит Максим.
Он вспоминает, что продолжал рисовать даже в СИЗО, некоторые из рисунков ему тогда удалось передать Светлане и в Питере организовали выставку его работ.
– А сейчас я вообще не рисую. Загрузился работой в семейном бизнесе, домашними делами, сейчас у меня период, когда нужно переосмыслить в принципе подход к рисованию, поэкспериментировать. Думаю, это у меня период аккумуляции ресурсов. Творчество – это всегда отражение того, что существует. Пока не понимаю, как рисовать в ситуации, когда лишний раз задумаешься, прежде чем изобразить человечка с пистолетом.