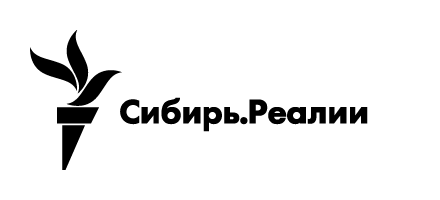В Сибири стоят три памятника Антону Чехову – издевательский в Томске, льстивый в Красноярске и честный на Сахалине. Какие отзывы он оставил о соответствующем месте – такие памятники и получил. За три с половиной века от завоевания Сибири до революции 1917 года в Сибири побывало не так много русских писателей, еще меньше побывало здесь по собственной воле. В отсутствие внутренней мобильности и интернета именно тревел-рассказы столичных писателей на десятилетия прочно закрепляли образы Сибири в просвещенном российском обществе. Глазами этих писателей Россия хотела посмотреть в Сибирь, как в зеркало, но увидела там вместо собственного отражения огромную зияющую бездну, наполненную пустотой и "простым народом", растворенным в природе. Посреди этой пустоты стояли русские интеллигенты и отчаянно призывали всех ко спасению. Но спасаться никто не захотел.
Из России в Сибирь и обратно
Просвещенная Россия вспомнила, что у нее есть Сибирь, в первой четверти 18-го века – лет через 150 после того, как она у нее действительно появилась. Считается, что первую академическую экспедицию за Урал совершил только в 1730-е годы немецко-русский историограф Герхард Фридрих Миллер, один из лидеров Императорской академии наук и художеств. В некотором смысле его публицистика о Сибири – та же литература, только путешествовал он не как бедный писатель, а как знатный вельможа. Сибирские краеведы позже описывали характерный эпизод, когда в марте 1735 года Миллер отправился из Иркутска на Байкал (расстояние – 70 километров) "налегке" – в его караване было "всего" 37 лошадей. Считать, что Миллер увидел настоящую Сибирь, – то же самое, что считать, что нынешние высокопоставленные чиновники видят из окон своих бронированных лимузинов настоящую Россию.
Тем интереснее были для "просвещенного" общества любые действительно "живые" сведения о Сибири. За Урал отправлялось тысячи и тысячи людей – да вот беда: для многих это была дорога в один конец, поскольку они были ссыльными. Возвращались из-за Урала – десятки и сотни, из них единицы описывали свои путешествия, совершенные, как правило, не по собственной воле. От "Жития протопопа Аввакума" и "Записок из мертвого дома" Достоевского до "Колымских рассказов" Шаламова и "Архипелага ГУЛАГа" Солженицына – все это свидетельства бывших каторжников и ссыльных, которые волею судеб оказывались еще и писателями.
Надо также понимать и то, что единицы тревел-блогеров 18–19-го веков были также немногими образованными жителями "материковой" России, с которыми встречались сами сибиряки. Иркутский краевед Нит Романов в конце 19-го века писал, что "из не торгующих иркутян почти никто в Россию не ездил". Словом, писатели были представителями той небольшой группы людей, которая, как кровеносные сосуды, снабжала россиян знаниями о Сибири, а сибиряков – о России.
Для этого текста мы взяли дореволюционных классиков школьного курса литературы, оставивших воспоминания о своей поездке в Сибирь: Александра Радищева, Николая Гончарова, Федора Достоевского, Николая Чернышевского и Антона Чехова. Из этих пяти писателей двое (Чехов и Гончаров) отправились в Сибирь по собственной воле, Достоевский и Чернышевский – как каторжане, Радищев – как ссыльный в странном статусе "государственного преступника". Первое путешествие от последнего отделяет больше века. Тем любопытнее, что они писали о Сибири, в сущности, одно и то же. Писали много, но, кажется, так ничего и не поняли.
Чем дальше, тем лучше
Есть такой специфический вид любви – любовь на расстоянии, которая рассыпается при встрече с объектом вожделения и усиливается при расставании с ним. Если русские писатели когда-то и любили Сибирь, то именно такой любовью. В "Записках из мертвого дома" Достоевский пишет: "В Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками освящённые". Традиционно это выставляется как доказательство любви писателя к Сибири, вот только написано это было уже после его ссылки, в 1860 году. В самой Сибири Достоевский не был так сентиментален: "летом духота нестерпимая, зимою холод невыносимый. Все полы прогнили. Пол грязен на вершок, можно скользить и падать". Это его письмо к брату из той самой "теплой" Сибири, где он просит выхлопотать ему ссылку на Кавказ взамен Сибири.
Путь в Сибирь для наших героев – это путь в ад. Путь из Сибири – возвращение в "землю обетованную". В письме своему покровителю, президенту Коммерц-коллегии графу Александру Воронцову из Тобольска в июле 1791 года высланный Александр Радищев писал: "Признаюсь вам откровенно, что я не могу не испытывать чувства тоски при мысли о тех безлюдных пространствах, куда мне предстоит удалиться". Почти как под копирку через полвека ссыльный Федор Достоевский так описывал переход через Урал: "Грустная была минута переезда через Урал. Кругом снег, метель; граница Европы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, назади всё прошедшее – грустно было, и меня прошибли слезы".
Почти через десять лет, на той же самой границе, уже возвращаясь из Сибири, все тот же Достоевский напишет: "В один прекрасный вечер, часов в пять пополудни, скитаясь в отрогах Урала, среди лесу, мы набрели наконец на границу Европы и Азии. Мы вышли из тарантаса, и я перекрестился, что привёл наконец Господь увидать обетованную землю". Итак, один и тот же человек, в одном и том же пространстве испытывает совершенно разные чувства. А в чем секрет? Секрет в том, куда именно он едет.
Итак, чем дальше Сибирь – тем лучше получаются теплые воспоминания о ней. Любопытно, что это справедливо не только по отношению к тем, кто оказался здесь не по собственной волне, но и к двум "романтикам", отправившимся в Сибирь самостоятельно, из интереса. В своей недавней статье о Чехове профессор МГУ Владимир Калуцков проанализировал эмоциональный окрас воспоминаний писателя по мере его движения от Москвы до Сахалина. Оказалось, что от Москвы до Красноярска в его дневниках преобладают негативные эмоции, от Красноярска до Сретенска – позитивные, а от Сретенска до Сахалина – восторженные. Сретенск – город ничем не выдающийся, и вы не найдете в дневниках Чехова восторженных воспоминаний об этом местечке. Однако Сретенск стоит на реке Шилка – притоке Амура, и именно здесь Чехов пересел наконец со своего тарантаса на теплоход и в комфорте поплыл по-летнему, почти субтропическому Амуру. То есть восторженные отзывы о путешествии о Сибири Чехов начал писать преимущественно тогда, когда собственно "Сибирь" для него и закончилась.
Даже Иван Гончаров, который отправился в Сибирь на обратном пути из своего морского путешествия (по итогам которого был написан "Фрегат "Паллада"), пересекая границу Якутии и Иркутской губернии, пишет: "Слава Богу! Все стало походить на Россию: являются частые селения, деревеньки. Летают воробьи и грачи, поют петухи... и дым столбом идет вертикально из множества труб — дым отечества!"
"Мы" и "они"
Каждый, кто хоть немного знаком со школьным курсом литературы и истории, знает, что подобная "любовь на расстоянии" – это специфика российской дореволюционной интеллигенции. А возможно, российской интеллигенции вообще. Как среди руководителей "партии пролетариата" не было ни одного пролетария, как "петрашевцы", заботившиеся о благе "простого народа", были сплошь дворянами, литераторами, учеными и студентами, так же и писатели, рассказывающие столичной публике о Сибири, в душе не были никакими "сибиряками". Они оставались все теми же столичными интеллектуалами, с ужасом и удивлением сталкивавшимися в реальности с теми, кого они якобы представляли и защищали.
Лишенный к тому времени дворянского звания, Достоевский в "Записках из Мертвого дома" пишет: "Это народ грубый, раздражённый и озлобленный. Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому нас, дворян, встретили они враждебно и с злобною радостию о нашем горе. Они бы нас съели, если-б им дали".
Поэтому в своих воспоминаниях о Сибири наши герои специально или неосознанно, но раз за разом подчеркивают: есть "мы", которые приехали сюда из цивилизованной и нормальной страны, а есть "они" – странные дикари, которые нас здесь окружают. В своем письме от 22 октября 1970 года Александр Радищев пишет Воронцову: "Душа моя болит и сердце страждет. Если бы не блистал луч надежды, хотя в отдаленности, если бы я не находил толикое соболезнование и человеколюбие от начальства в проезд мой через разныя губернии, то признаюсь, что лишился бы, может быть, и совсем разсудка".
А если так, то этих "их" надо спасать и вытягивать к цивилизации. Сибиряк и областник Николай Ядринцев в своем эссе "Достоевский в Сибири" пишет: "Все знают, что издание "Записок из Мертвого дома" совпало с переломом в русской жизни, расширило миросозерцание общества и провело новую идею в художественных образах. Это идея спасения погибающих, идея страдания, любви, идея умиротворения, которая должна была войти в кровь и дух созидающейся жизни".
Если что-то Сибирь и дала России, кроме ресурсов, то это истовое подтверждение вечного страдания интеллигенции о невозможности спасения "простого народа".
Люди в естественной среде обитания
На пути этого спасения всегда возникает одна и та же беда: "простой народ" никак не желает спасаться. Чтобы понять, как себе объясняли это досадное обстоятельство наши герои, нужно сказать пару фраз об окружавшем их естественнонаучном контексте. Создававшиеся в тот период "краеведческие музеи" (хоть в России, хоть в США) были не только о природе, но и об "этнографии". Этнография – это наука прежде всего о местных жителях покоренных территорий, которых ученые из метрополии не особенно отделяли от окружающей природы. Потому и музеи – про природу и местных жителей. Так воспринимала колониальную реальность наука второй половины 19-го века.
Многие комментаторы отмечают, что наши герои пишут об особенной природе Сибири, ее просторах, морозе, снегах и далее по понятному всем списку. Но мало кто замечает, что местные жители для них – это особый род местных зверьков, которые разбросаны по Сибири и удивляют приезжих своим странным поведением. Не потому, что Достоевский или Гончаров – какие-то особо циничные колонисты, но только лишь оттого, что они продукт своей эпохи.
"Здешние коренные жители в час отдохновения пьют чай и спят, в какой бы час дни то ни было; веселье их и забавы поставляют в пьянстве", – пишет Радищев 19 апреля 1791 года. Николай Чернышевский в своих письмах из якутской ссылки противопоставляет чиновников и "простой народ", описывая "простой народ" все в тех же отечески-снисходительных тонах: "Сколько хлопот и трудов стоит им приготовление моего кушанья! Но, благодаря их заботливости, я имею каждый день достаточно, даже изобильно, мясо или рыбу. И вообще простые люди здесь добры, честны, некоторые при всей своей темноте положительно благородные люди".
Иван Гончаров описывает "сибиряка" как эдакого вышедшего из природной среды богатыря, который сливается с природой и использует ее в своих целях и интересах: "Увидите вы … скачущего на бешеной тройке, запрятавшегося в повозку, зарывшегося в меха человека – и всё: лошади, повозка, человек и кучер его, и усы, и борода, и брови у обоих – всё оковано льдом и засыпано снежным пухом; услышите, что он мчится за несколько сот вёрст к приятелю на именинный пирог или за четыре тысячи вёрст перемолвить о деле. Это опять сибиряк".
Антон Чехов в своих дневниках описывает встречу с "мужиком" в Колывани, подчеркивая его образованность вкупе с непосредственностью. Образованность сразу делает этого "мужика" отделенным от остального "народа". Он так и говорит Антону Павловичу: "Народ здесь в Сибири темный, бесталанный. Из России везут ему сюда и полушубки, и ситец, и посуду, и гвозди, а сам он ничего не умеет. Только землю пашет да вольных возит, а больше ничего... Даже рыбы ловить не умеет. Скучный народ, не дай бог, какой скучный!" А остальные люди – те самые, за описание которых на Чехова обиделись нынешние томичи, поставив ему нелепый памятник: "Если судить по тем пьяницам, с которыми я познакомился, и по тем вумным людям, которые приходили ко мне в номер на поклонение, то и люди здесь прескучнейшие".
Поэтому тот же Чернышевский в реальности разделяет не "простой народ" и "чиновников", Чехов разделяет не "образованных" и "необразованных", – все они разделяют собственно "людей" и неких местных обитателей, виденных ими на изображениях в этнографических музеях. На фоне тех самых "сибиряков" – людей в естественной среде их обитания, наши тревел-блогеры 19-го века и видят "цивилизованные" сибирские города.
В своих воспоминаниях "По Восточной Сибири. В Якутске и в Иркутске" Иван Гончаров пишет о разделении "цивилизации" и окрестной "нормальной жизни" буквально, описывая местного якутского губернатора: "Это начальник края, раскинувшегося с Ледовитого моря с одной стороны, до Восточного океана с другой и до подножия Станового хребта с третьей. И ничего: дела шли себе ни валко, ни шатко, ни на сторону. Это и можно объяснить только тем, что в этой ледяной пустыне было больше зверей, чем людей, так что, собственно, губернатор был бы не нужен. А со зверями купцы распоряжались отлично".
Сибирь, которой нет
И самое главное. Русские писатели, будучи в Сибири, описывают много деталей своего пребывания в этом огромном крае, но не описывают, собственно, саму Сибирь. Люди, города с их чиновничьим гарнизонами, собственные душевные страдания писателей – все это происходит в звенящей пустоте, которая им совершенно неинтересна и в реальности как будто бы не существует.
В "Записках из Мертвого дома" Достоевского есть масса людей, но на стенах описываемого пространства весь мир словно бы заканчивается. Николай Чернышевский в Сибири пишет роман "Пролог", в котором нет буквально ни одного слова про Сибирь. А еще Чернышевский пишет повесть "История одной девушки", посвященную вопросам опасности полового воздержания. Ему интересна местная природа и местные жители, нашедшие для него рыбу на обед, но на этом его интерес, интерес чисто этнографический, к окружающей действительности и заканчивается.
Когда наши тревел-блогеры пытаются описать собственно перемещения по Сибири, а не свои остановки и встречи, то они удивительно лаконичны. Например, в воспоминаниях Гончарова огромный кусок территории проваливается в небытие: "14 января 1855 года я покинул Иркутск и погряз в пространной Барабинской степи, простирающейся чуть не до Екатеринбурга". Между "покинул Иркутск" и "погряз в Барабинской степи" – на деле больше двух тысяч километров, которых словно и нет вовсе.
Радищев в своих "Записках путешествия в Сибирь" проскакивает города безо всякого интереса. О Томске он пишет: "В Томске живут раскольники, татары. Рыбу имеют из Оби. Кожевни, холст продают, набойки делают. Баранки для милостыни". И более ничего. О Красноярске: "Красноярск имеет положение, как некоторые города в Альпах. Правый берег вдоль идет высок, и горы неровные. А левый высок же, но поверхность его ровна". И более ничего. Чехов в очерках "Из Сибири" огромный пусть от Урала до Енисея описывает как одну зияющую пустоту: "Усадеб по дороге не встречается, так как помещиков здесь нет; не увидите вы ни фабрик, ни мельниц, ни постоялых дворов. Едучи из России в Сибирь, вы проскучаете от Урала вплоть до самого Енисея".
Между прошлым и будущим
А раз никакой Сибири в реальности нет, только островки жмущихся друг к другу людей, то и восхищаться можно либо прошлым, либо будущим. Никак не настоящим. Многие комментаторы приводят цитаты, в которых наши писатели в восторге от Сибири, не замечая одного важного обстоятельства: они в восторге от будущей, воображаемой Сибири.
Радищев в тексте "Уральские горы" пишет: "Какая богатая страна эта Сибирь, какой мощный край! Понадобятся еще столетия. Но когда со временем она будет заселена, то сыграет великую роль в анналах мира". Чернышевский поражается нищенству якутских жителей и уверяет, что "что через несколько времени и якуты будут жить по-человечески". Наконец, и Чехов-то заслужил льстивый памятник в Красноярске не за описание увиденного, а за фантазии о будущем: "На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!"
Николай Ядринцев в своей статье "Сибирь перед судом русской литературы" комментировал это так: "Это был ренессанс панегиристов Сибири. Им ничего не значит провести телеграф в С.-Франциско, построить железную дорогу по всей Сибири, наполнить порты Восточного океана судами со всего мира и, наконец, завоевать Азию. Панегиристы в особенности любят завоевания". Описания настоящего меркли перед перспективами светлого будущего, а потому были совершенно не нужны.
Уже после сибирской ссылки Федор Достоевский напишет свой великий роман "Преступление и наказание", в котором будет эпилог, как считается, написанный по воспоминаниям пребывания в Омске. В эпилоге есть сцена, где Раскольников ранним утром выходит на пустынный берег реки ("Иртыша") и глядит на "широкую и пустынную реку": "С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли ещё века Авраама и стад его".
Подальше от объекта своего почитания, уже в комфортной "России", русские писатели вспоминали посещенную ими Сибирь как огромное пустое место, в котором где-то вдалеке проглядывается светлое будущее – не только и не столько Сибири, сколько всей страны.