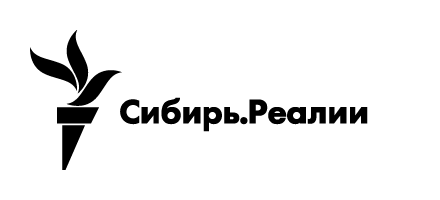9 февраля 1904 года (по старому стилю – 27 января), то есть 121 год назад, в самый первый день Русско-японской войны у берегов Кореи произошел знаменитый бой крейсера "Варяг" с японской эскадрой. Короткое сражение стало легендарным эпизодом той войны, и даже само слово "Варяг" сделалось с тех пор нарицательным. Самоотверженность, героизм, решимость пойти на верную смерть – все это "Варяг".
Чтобы не пропускать главные материалы Сибирь.Реалии, подпишитесь на наш YouTube, инстаграм и телеграм.
И правда, история крейсера, его командира и матросов в полной мере героическая. Но, как любой знаменитый военный эпизод, бой "Варяга" и предшествующие ему события обрастают массой разных толкований. О них по-своему рассказывают не только обе стороны конфликта, то есть русские и японцы, но и наблюдавшие за сражением англичане, итальянцы, американцы и французы. Сумел ли "Варяг" нанести ущерб японской эскадре? Мог ли он "прорваться" в Порт-Артур? Прав ли был его капитан, решившись выйти на неравный бой? Об этом до сих пор продолжают спорить профессионалы и любители истории.
О том, что на самом деле произошло 9 февраля, знают немногие. Для большинства основным источником является песня "Наверх вы, товарищи, все по местам", которую многие считают "русской народной". Из нее следует, что все моряки "Варяга" утонули, или погибли в огненном аду, в который превратился корабль, хотя это, мягко говоря, не совсем так. К тому же она не народная и не вполне русская, как, впрочем, и сам "Варяг", целиком изготовленный в Америке.
Но давайте обо всем по порядку.
"Хромой" суперкрейсер
"Варяг" был построен по заказу России в Филадельфии, в 1899 году. Он был задуман как скоростной крейсер с довольно посредственным бронированием. Быстрый и легкий, самый скоростной в мире. Орудия главного калибра на верхней палубе у него были практически беззащитны – на них не стояло даже бронещитков. Считалось, что главная защита крейсера от огня противника – скорость и маневренность. Для этого "Варяг" снабдили мощными паровыми машинами. Но, к сожалению, их котлы ("котлы Никлосса") оказались крайне сложными и капризными и вскоре наполовину пришли в негодность. Для их обслуживания требовались специалисты и оборудование, которых на Дальнем Востоке тогда не было.
Едва дойдя до места службы в Порт-Артуре, новенький "Варяг" стал кораблем-инвалидом, не способным сколь-нибудь долго развивать скорость больше 14 узлов (на треть меньше, чем планировалось). Плавились подшипники, лопались трубки в котлах. Быстро исправить эту проблему не удалось, и корабль было решено эксплуатировать как есть, без сильных нагрузок. Тем не менее, выглядел крейсер внушительно, и потому в январе 1904 года его и столь же тихоходную канонерскую лодку "Кореец" направили в корейский порт Чемульпо рядом с Сеулом, где им предстояло играть роль "стационеров", то есть стоять на рейде и охранять порт и русскую дипломатическую миссию. Свои миссии в Чемульпо также охраняли корабли английской, американской, французской и итальянской эскадр — Корея тогда интересовала все морские державы. Но больше всего она интересовала японцев, которые называли ее "стрелой, направленной в сердце Японии".
Миссия неясного назначения
Войну с Японией в России не предсказывал только ленивый. Хотя большинство правительственных чиновников, придворных и сам Николай II упорно делали вид, что никакой войны не будет. Даже когда Япония разорвала официальные отношения с Россией, при дворе русского императора продолжали убеждать себя, что ничего страшного не происходит.
Поэтому атака японцев на Порт-Артур 9 февраля (все даты здесь и далее по новому стилю) стала неожиданностью. Что же касается Кореи, то ее уже заранее "отдали" Японии – по крайней мере, у капитана "Варяга" имелся приказ не препятствовать высадке японцев в Чемульпо, если такая высадка начнется. Мол, бог с ней, с этой Кореей – лишь бы не было войны.
Да, собственно, "Варяг" и не смог бы ничего сделать, потому что японцы фактически Корею уже захватили. Начиная с осени 1903 года, под видом сельскохозяйственных рабочих и обывателей в окрестности Сеула приехали тысячи японцев. В городе в качестве "туристов" и "коммерсантов" находились сотни японских офицеров. Японские торговые склады на территории Кореи были набиты винтовками и патронами, а в порт пришло несколько десятков японских барж и буксиров, готовых участвовать в высадке войск – до которой явно оставалось не долго. Вот такая "мягкая сила". И русский консул в Сеуле об этом прекрасно знал, а значит знало и командование в Порт-Артуре.
Какой же смысл отправлять туда русские корабли, которые явно будут в меньшинстве, да еще с приказом "не вмешиваться"? Разве что – чтобы эвакуировать русское посольство. Но приказа об эвакуации ни на "Варяг", ни российскому послу не поступало. Хуже того, в течение последней недели на все депеши, отправленные в Порт-Артур, вообще не приходило никаких ответов. Посол подозревал, что японцы перерезали каналы связи (на самом деле телеграммы доходили, просто начальству было не до того). А вскоре стало известно, что японская эскадра подошла к корейскому полуострову и расположилась недалеко от входа в Чемульпо. Она определенно готовилась к высадке десанта. И, наконец, 7 февраля от капитана английского "стационера" командир "Варяга" Всеволод Руднев узнал, что Япония разорвала отношения с Россией. Если в Петербурге еще можно было себя обманывать, то здесь, на Дальнем Востоке, каждый вменяемый человек ясно понимал: это война. Что же делать?
Война началась не с того
Этого Рудневу никто сказать не мог, даже российский посол в Сеуле, который уже "сидел на чемоданах", но не двигался с места в ожидании распоряжений начальства. А распоряжений все не было. Оставалось одно – отправить за ними в Порт-Артур "Корейца". Лучше бы, конечно, ночью. Но пока шли сборы и старая канонерская лодка разводила пары, рассвело, и вообще день перевалил за полдень. Тут вдруг выяснилось, что японский "стационер" "Чиода", стоявший последнюю неделю на рейде в стороне от европейских, русских и американских судов, вдруг неожиданно покинул порт. Ох, не к добру!
И действительно, едва выйдя из гавани, "Кореец" обнаружил перед собой эскадру контр-адмирала Уриу в полном составе. Она как раз шла в сторону порта.
Уриу ведь тоже последние дни ждал указаний из Токио, вернее, разрешения начать высадку десанта (и, возможно, боевые действия против русских, если "Варяг" сделает хоть выстрел). И он как раз эти разрешения получил. По его сведениям, российские корабли тихо-спокойно стояли на рейде, и он решил начать высадку десанта прямо в порту, на глазах у всех иностранных "стационеров", в том числе и русских. По его плану, который он озвучил капитанам эскадры, "два миноносца встают в точку, недоступную для огня противника, а другие два с миролюбивым видом занимают такую позицию рядом с "Варягом" и "Корейцем", чтобы в одно мгновение можно было решить их судьбу – жить им или умереть". В это время остальные боевые корабли встают на рейде, а транспорты начинают высадку. Безупречный план!
И он уже был близок к осуществлению, японская эскадра шла на всех парах к рейду Чемульпо, как вдруг… Сюрприз! Прямо навстречу "выскочила" русская канонерская лодка.
Растерялись обе стороны. "Кореец", буквально "уткнувшись" в две линии японской эскадры, начал поворачивать назад, чтобы поскорее вернуться в Чемульпо. Фактически, он еще не вышел в открытое море, и потому открывать огонь из орудий по нему японцам было неудобно – снаряды могли залететь на рейд, где стояли англичане, французы и итальянцы. Другое дело – торпеды. Но "достать" маленькую канонерскую лодку торпедой с большого расстояния было затруднительно. Тем не менее, два японских миноносца погнались за "Корейцем" и выпустили по торпеде, но – мимо. Заметив это, капитан "Корейца" тоже распорядился было открыть огонь, но буквально через несколько секунд отменил приказ: канонерка уже входила на рейд Чемульпо. А это были территориальные воды страны, не участвующей в конфликте, и стрелять там по международным законам запрещалось. Тем не менее артиллеристы успели сделать пару выстрелов в сторону японцев. Разумеется, тоже безуспешно. Так закончилось первое боевое столкновение русско-японской войны (которое произошло за несколько часов до ее "настоящего" начала). Скорее даже не столкновение, а инцидент.
Тем не менее одна из сторон понесла в нем потери: третий миноносец, погнавшись за "Корейцем", не рассчитал разворот, и его выбросило на каменистую отмель. В итоге он повредил гребной винт и потерял ход.
Впрочем, все это никак не отразилось на планах японского контр-адмирала, и с его флагмана просигналили флажками: "продолжаем, как начали".
"С миролюбивым видом"
Около пяти часов вечера (сумерки еще не наступили) капитан "Варяга" Всеволод Руднев наблюдал с мостика чрезвычайно странную картину. На рейд Чемульпо вместе с неожиданно вернувшимся "Корейцем" с самым что ни на есть невинным видом один за другим заходили японские крейсеры и транспорты, а два миноносца на малом ходу деловито подошли почти вплотную к "Варягу" и встали на якоре напротив него. "С миролюбивым видом", как писал в своем приказе Урио. Видимо, чтобы подчеркнуть свои миролюбивые намерения, японские моряки расчехлили на миноносцах торпедные аппараты, и направили их точнехонько на "Варяг".
Ну что тут скажешь. Бывает. Если бы японцы напали на "Корейца", скорее всего, Руднев все равно приказал бы открыть огонь. Но "Кореец" целым и невредимым стоял на рейде. Просто в море его японцы не выпускали. Похоже, не выпустили бы они теперь и "Варяг". Оставалось только следовать приказу, не вмешиваться и повторять мантру из российского генштаба: "лишь бы не война".
Закон коммодора Бэйли
Между тем высадка японского десанта шла полным ходом. Баржи и мотоботы сновали от транспортов к пристани и обратно, перевозя тысячи солдат. Так продолжалось до глубокой ночи, и Руднев, безусловно, чувствовал, что попал в засаду. Чтобы выяснить, что происходит, он отправился на английский крейсер"Тальбот", который формально считался главой всех "стационеров" на рейде Чемульпо. Там как раз шло совещание, в котором участвовали капитаны французского и итальянского крейсера, а также американской канонерской лодки, и Руднев тотчас рассказал им о нападении японцев на "Корейца" – и о том, что "Варяг" стоит сейчас под прицелом миноносцев. Впрочем, это они прекрасно видели и сами.
Согласно международным законам, рейд и порт Чемульпо были нейтральной территорией, и потому все собравшиеся капитаны немедленно составили ноту протеста с требованием прекратить агрессивные действия против русских кораблей. Подписывать этот документ отказался только американский капитан (он ничего не делал без одобрения из Вашингтона), остальные же поставили свои подписи. Отвезти протест на японский флагман вызвался капитан "Тальбота" Бэйли.
Вообще-то, Англия в назревавшей войне явно симпатизировала Японии, но коммодор Бэйли, очевидно, был из тех людей, которым плевать на политику. Для него был важен морской закон (который японцы явно собирались нарушить). Поэтому через час, встретившись с японским адмиралом, он без обиняков заявил, что не позволит никому вести на рейде боевые действия, и обещал немедленно открыть огонь по тому, кто сделает первый выстрел.
Весомое предупреждение!
Однако японцы заверили его, что не собираются нападать на русских, а про атаку "Корейца" знать ничего не знают. Мол, это русским морякам померещилось.
С тем и разошлись. Бэйли заглянул на обратном пути на "Варяг" и передал Рудневу содержание разговора, а после полуночи высадка закончилась. Миноносцы внезапно снялись с якорей и растворились в темноте, а японские транспорты и боевые корабли один за другим покинули бухту. На рейде до утра остался только один крейсер "Чиода".
Ультиматум
Казалось бы, капитан "Варяга" мог выдохнуть с облегчением. Но Руднев чувствовал, что здесь что-то не так. Он, конечно, не знал, что в это время японские миноносцы начали внезапную атаку на Порт-Артур, и Япония официально объявила о войне с Россией. Но стоящий под парами на рейде японский крейсер не давал спокойно заснуть.
Под утро от него отделилась лодочка, доплыла до французского крейсера "Паскаль" и вернулась обратно. Почти тотчас "Чиода" подняла якорь, и растворилась в утренних сумерках, присоединившись к основной японской эскадре. А в 8 утра к "Варягу" подошла лодка с французского корабля. Капитан "Паскаля" привез оставленный японцами пакет. Это было официальное объявление войны и ультиматум: до 4 часов дня "Варяг" и "Кореец" должны покинуть Чемульпо, иначе их, как неподвижные мишени, расстреляют прямо на рейде.
Ультиматум японцев возмутил капитанов других "стационеров". Возмутил – но только и всего. Разумеется, никто из них не собирался участвовать в сражении на рейде, и все они явно намекали Рудневу, что теперь он должен принять ответственность на себя. Другими словами, покинуть Чемульпо. На вопрос, не согласится ли кто-либо из них выйти в море и как нейтральная сила эскортировать "Варяг" и "Корейца" мимо японской эскадры, они лишь пожимали плечами. Действительно, с чего бы это?
Выбора у Руднева не было. И он, зачитав экипажу японский ультиматум, распорядился готовить корабли к бою. Свидетели вспоминают, что капитан обратился к команде с такими словами: "Вызов более, чем дерзок, но я принимаю его. Я не уклоняюсь от боя, хотя не имею от своего правительства официального сообщения о войне. Уверен в одном: команды "Варяга" и "Корейца" будут сражаться до последней капли крови, показывая всем пример бесстрашия в бою и презрение к смерти".
На верную смерть
В 11 часов утра "Варяг" и "Кореец" снялись с якоря и направились к выходу с рейда. Они проходили мимо других "стационеров", и прощались с ними по морскому обычаю: оркестр на палубе по очереди играл гимны Франции, Англии, Италии… Это был обычный ритуал, но в этот раз на палубы иностранных крейсеров по команде "большого сбора" высыпали все матросы. С "Тэлбота", "Паскаля" и итальянской "Эльбы", когда "Варяг" проходил мимо, раздавались звуки российского гимна. "Мы салютовали этим героям, шедшим так гордо на верную смерть!" – писал позднее командир "Паскаля" капитан I ранга Сенес. – "Волнение было неописуемое, некоторые из матросов плакали. Никогда не приходилось им видеть более возвышенной и трагической сцены. На мостике "Варяга" стоял его командир, ведущий корабль на последний парад".
Действительно, шансов у "Варяга" и "Корейца" против шести японских крейсеров и восьми миноносцев не было никаких, поэтому не удивительно, что, увидев русские корабли, контр-адмирал Уриу распорядился выбросить сигнал "сдаться на милость победителя". В ответ "Варяг" поднял боевые флаги, и в 11 часов 45 минут с крейсера "Асама" раздался первый выстрел. "Варяг" немедленно ответил.
Весь огонь японцев с первых минут был сосредоточен именно на "Варяге", о канонерской лодке они словно забыли. Именно на "Варяг" обрушивались их залпы главных калибров. Около 200 выстрелов в минуту, причем фугасными снарядами!
Это было одно из главных преимуществ японской артиллерии – снаряды, которые взрывались даже от попадания в легкие надстройки или в воду. Они не были бронебойными, и не делали глубоких пробоин, зато огненным валом сметали все с палубы корабля противника. А верхняя палуба "Варяга", как уже говорилась, была практически лишена брони, и каждое попадание приводило к многочисленным жертвам.
Ответный огонь русских кораблей был не так эффективен, потому что уже на первых минутах боя один из японских снарядов попал в дальномерную станцию "Варяга", а затем была повреждена и вторая, запасная станция. Оставшись без дальномеров, артиллеристы были вынуждены стрелять практически "на глазок". К тому же с каждой минутой орудий становилось меньше: осколки японских снарядов разбивали механизмы наводки, клинили орудийные станины. И, разумеется, косили самих артиллеристов: в ходе боя почти половина матросов, находившихся на верхней палубе, была убита или тяжело ранена. Через полчаса сражения к уцелевшим орудиям пришлось встать механикам из машинного отделения, но это уже не могло ничего изменить. Фактически, "Варяг" оказался не способен нанести японским кораблям хоть какой-нибудь, даже мало-мальский ущерб, хотя позднее Руднев писал, будто ему удалось потопить миноносец и дважды попасть в японские крейсеры (японцы же в рапортах утверждали, что ни одного попадания и ни одной жертвы на их кораблях не было).
Это абсолютно нормальная ситуация: с разных сторон бой всегда выглядит по-разному. Разнится и статистика. Руднев в своих отчетах утверждает, что "Варяг" за 45 минут выпустил по противнику более 1105 снарядов. Поразительная скорострельность!
Но, как считают многие исследователи, эта цифра не точна, она взята Рудневым из вахтенного журнала как разница между штатным количеством снарядов и их остатком в погребах. Однако до этого крейсер участвовал в учебных стрельбах, плюс много неиспользованных во время боя снарядов осталось на палубе (об этом же пишут японцы, поднявшие "Варяг"). Если все это учесть, выходит, что "Варяг" израсходовал не более 160 снарядов калибром 152-мм и порядка 50 – 75-мм. Так что, если держать в уме результативность стрельбы русских кораблей в других сражениях, например, в бою при Шантуне, получается, что при таком расходе снарядов в лучшем случае могло быть одно попадание в японские корабли. И то не факт. Так что, скорее всего, здесь японцы ближе к правде.
С другой стороны, сам Руднев писал, что решил выйти из боя, поскольку большая часть орудий получила повреждения и была непригодна для стрельбы. Японцы же после подъема "Варяга" сочли все его двенадцать 152-мм орудий годными и передали их в свои арсеналы. Однако вполне вероятно, что были повреждены
осколками не сами орудия, а механизмы наводки. Мелкие неисправности – но во время боя устранить их невозможно.
В любом случае, "Варяг", получивший 11 прямых попаданий снарядов и серьезную пробоину ниже ватерлинии, больше не мог сопротивляться.
К тому же в разгар боя ранило и самого Руднева. Он получил сильную контузию и рану головы, и, вероятно, несколько минут был без сознания — за это время, похоже, "Варяг" потерял управление и ушел на разворот. Его артиллерия замолчала, корабль кренился на один борт. Сражаться дальше не было никакого смысла. А вот возвращаться обратно, на рейд (куда "Варяг", кажется, уже собирался уплыть сам собой) еще имело резон. Можно было попытаться спасти остатки экипажа, и затопить корабль в гавани, чтобы он не достался японцам.
Так Руднев и сделал.
Счастливый "Кореец"
Весь бой "Варяга" с японской эскадрой продолжался 45 минут. "Кореец" все это время держался чуть в стороне, и, хотя старательно (но безуспешно) вел огонь по японским крейсерам из двух своих тяжелых орудий, сам почти избежал обстрела. По какой-то причине японские снаряды перелетали за лодку, лишь один попал в таранный отсек на носу. Ни убитых, ни раненых на "Корейце" не было, но когда Руднев дал сигнал отбоя, канонерская лодка немедленно последовал за ним, оставляя сзади дымовую завесу для маскировки.
Впрочем, большой нужды в ней, как оказалось, не было. Японцы не стали преследовать русские корабли, и "Варяг", кренясь на один борт, с разбитой в щепки верхней палубой, на которой лежали кровавые останки матросов, беспрепятственно вошел на рейд и прошел мимо тех же иностранных крейсеров, мимо которых час назад проходил под музыку.
"Я никогда не забуду потрясающего зрелища, представившегося мне. Палуба залита кровью, всюду валяются трупы и части тел. Ничто не избежало разрушения", – писал капитан "Паскаля". Он оказался на "Варяге" буквально через несколько минут после того, как крейсер вошел на рейд. Там же были медицинские команды с французского и итальянского кораблей, мгновенно бросившиеся на помощь русским. Тяжело раненых эвакуировали на берег (в госпиталь Красного креста, где они могли остаться в безопасности), остальных вывозили на свои "стационеры". И французы, и англичане радушно принимали русских героев, а на итальянском крейсере матросы даже объявили, что согласны спать на полу и уступают им свои койки в кубриках.
Конец подвига
Большинству русских моряков все-таки удалось благополучно пережить этот бой. Из экипажа "Варяга" почти в 700 человек погибло 39 (один офицер и 38 нижних чинов). Еще двое тяжелораненых умерли в госпитале через несколько дней. Раны разной тяжести получили 70 матросов и 3 офицера, в том числе и сам капитан.
Но, вернувшись на рейд, Руднев опасался, что японские корабли идут следом, и попытаются взять "Варяг" в качестве трофея, а команду захватить в плен. Поэтому он спешил. По его приказу "Кореец" был заминирован, и сразу после эвакуации экипажа взорван прямо на рейде. Такая же судьба ожидала "Варяг", но коммодор Бэйли, опасавшийся, что при взрыве на крейсере могут детонировать снаряды, настоял на том, чтобы корабль был просто затоплен. Поэтому Руднев открыл кингстоны.
В итоге "Варяг" лег на дно недалеко от пирса, на мелководье, так что вода едва покрывала его верхнюю палубу. Прямо-таки готовый подарок японцам! Увидев это, Руднев побледнел от досады, но изменить уже ничего было нельзя. История героического подвига "Варяга" закончилась.
И началась легенда.
Легенда из вторых рук
Сперва – газетная. Бой "Варяга", фактически, происходил на глазах всего мира, и потому о нем очень скоро узнали французские, итальянские, английские журналисты. И, разумеется, американцы, которые территориально были ближе всего к месту событий. Уже через два дня в Чемульпо прибыл Джек Лондон, работавший корреспондентом одной из американских газет. Он добирался в Корею через Японию, и (в отличие от русской разведки) откуда-то прекрасно знал о предстоящей высадке японцев и битве с русскими кораблями заранее, но опоздал. "Меня приветствовали мачты и трубы затонувших в гавани кораблей", – с досадой записал он в дневнике.
Так или иначе, о подвиге русских матросов первыми сообщили американские и европейские газеты, а потом уже об этом заговорили в России. Война началась и шла столь неудачно, что бой "Варяга" становился для русской пропаганды чуть ли не единственным в ней светлым пятном. К тому же, этот символ русского мужества был уже разрекламирован иностранцами. Грех было не воспользоваться. И русские газетчики стали писать про "Варяг" с удвоенной силой, а при дворе начали готовить морякам шикарную встречу.
Между тем экипажи "Варяга" и "Корейца", в статусе "интернированных" разбросанные по разным иностранным кораблям, мучительно добирались домой. Японцы не чинили им препятствий, довольствовавшись простым обещанием, что моряки не станут принимать участие в дальнейших боевых действиях. В плен никто из них не попал.
Правда, и дорога в Россию оказалась достаточно долгой. Через нейтральные порты они разрозненными группами добрались до Одессы лишь к началу апреля, и только там узнали, что теперь имеют статус героев и едва ли не небожителей. Все награждены "Георгиевскими крестами", все приглашены в Петербург, на прием к Императору и на званый обед, где, по воспоминаниям матросов, "сиятельные княжны своими белыми ручками разносили закуски". Каждый получил в подарок именные часы, столовые приборы и парадную одежду. Ну и, конечно, бессмертную славу в придачу, о которой уже стали складывать песни.
Песня и путь на металлолом
Ничто так не вдохновляет патриотических поэтов, как газетные передовицы. Текст первой песни про "Варяг" ("Плещут холодные волны") появился уже через 16 дней после гибели крейсера в газете "Русь" за подписью Я.Репнинского. Песня была драматичной, но слишком мрачной, и потому для встречи команды "Варяга", которая планировалась при дворе, не годилась. По счастью, вскоре нашелся еще один текст.
Правда, не на русском языке. Оказалось, что почти одновременно с Репнинским его не менее безвестный коллега, австрийский писатель и поэт Рудольф Грейнц написал стихотворение Der Warjag и опубликовал его в немецком журнале "Югенд". Поэтесса Евгения Студенская перевела его на русский, а один из музыкантов 12-го гренадерского полка Алексей Турищев написал к нему музыку. Так неожиданно (и очень кстати, как раз к приезду в Петербург экипажей "Варяга" и "Корейца") родилась знаменитая песня "Наверх вы, товарищи, все по местам!". Ею герои и были торжественно встречены.
Все три автора песни (включая переводчицу и музыканта-гренадера) только благодаря этой песне и вошли в историю искусства. Но их имена, несомненно, останутся в российских энциклопедиях навеки.
Понятное дело, что останется в истории и название "Варяг", которое кочует с одного русского корабля на другой. Был ракетный крейсер "Варяг", авианосец (который так и не доделали) и еще один ракетный крейсер, который до сих пор служит на Дальнем Востоке. Что же до настоящего "Варяга", то буквально через пару месяцев после своей легендарной гибели он был поднят японцами со дна, и дальше десять лет проплавал в качестве учебного корабля под неблагозвучным для русского уха названием "Соя". Правда, название "Варяг" из уважения к его подвигу японцы на его бортах оставили, и всем матросам-новобранцам рассказывали, что это "тот самый" корабль, который один вышел в бой против целой японской эскадры. А в 1916 году, уже во время I Мировой войны, в которой Россия и Япония оказались союзниками, легендарный крейсер был выкуплен, и чуть было не вернулся на родину. Но, на беду, его отправили чиниться в Англию – русские мастера все никак не могли приноровиться к проклятым котлам Никлосса. Оттуда "Варяг" и был после революции продан в Германию на металлолом, потому что отдавать его большевикам никто не собирался.
Впрочем, им хватило и "Авроры".
В тени восходящего солнца
Что же касается капитана "Варяга" Всеволода Руднева, то он не только получил из царских рук орден Святого Георгия 4 степени, но и был назначен командиром строящегося броненосца "Андрей Первозванный". Правда, ненадолго. Уже в ноябре 1905 года Руднев впал в немилость – он отказался "принять дисциплинарные меры против революционно настроенных членов экипажа" и едва не был отдан под суд. Но, конечно, с капитаном легендарного корабля поступить так было нельзя. Поэтому Руднева, напротив, произвели в контр-адмиралы и немедленно отправили в отставку, на пенсию.
Это был единственный выход, потому что Руднев не просто оставался героем в глазах всего мира, его после окончания войны объявили героем даже в Японии и в Корее. В 1907 году сам японский император в знак признания героизма русских моряков направил капитану "Варяга" орден Восходящего солнца II степени. Руднев орден принял, хотя никогда его не надевал. Он вообще не любил ордена, и, кажется, со временем стал ненавидеть свое военное прошлое.
Последние годы жизни (а умер он в 57 лет, в 1913 году, вероятно, из-за последствий контузии) бывший капитан провел в своем имении в Тульской области, недалеко от Ясной поляны. Рассказывают, что Руднев приезжал туда в гости и беседовал со Львом Толстым. О чем они говорили, никто не знает, но Толстой, как известно, принял близко к сердцу начало войны с Японией и уже в апреле 1904 года написал взволнованную антивоенную статью "Одумайтесь!", которую не решилась напечатать ни одна российская газета. Личный врач Толстого Владимир Чертков перевел статью на английский, и она была опубликована в "Таймс":
"Газеты пишут, что при встречах царя, разъезжающего по России гипнотизировать людей, отправляемых на убийство, проявляется неописуемый восторг в народе. В действительности же проявляется совсем другое. Со всех сторон слышатся рассказы о том, как там повесилось трое призванных запасных, там еще двое, там оставшаяся без мужа женщина принесла детей в воинское присутствие и оставила их там, а другая повесилась во дворе воинского начальника. Все недовольны, мрачны, озлоблены. Слова: "за веру, царя и отечество", гимны и крики "ура" уже не действуют на людей, как прежде: другая, противоположная волна сознания неправды и греха того дела, к которому призываются люди, всё больше и больше захватывает народ… Есть истинные герои — сидящие теперь по тюрьмам и в Якутской области за то, что они прямо отказались итти в ряды убийц и предпочли мученичество отступлению от закона Христа…" Лев Толстой "Одумайтесь!"
Едва ли сейчас многие помнят об этой публикацией (кстати, осужденной ведущими газетами Российской империи, как "очернение подвига русского народа"), зато почти каждый знает наизусть строки из стихотворения немецкого поэта:
"Врагу не сдается наш гордый "Варяг".
Пощады никто не желает!"