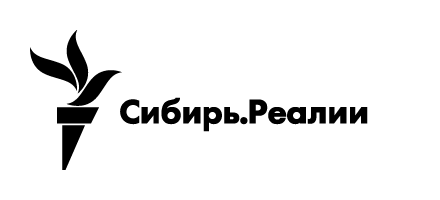В 2024 году воздействие вооруженных конфликтов на детей во всем мире достигло катастрофического и, вероятно, рекордного уровня. Об этом говорится в подготовленном ЮНИСЕФ обзоре последних имеющихся данных и преобладающих глобальных тенденций. По оценкам экспертов, сейчас в зонах конфликтов проживает или являются вынужденными переселенцами в результате конфликтов и насилия как никогда много детей. К концу 2023 года по этим причинам были перемещены 47,2 миллиона детей, причем тенденции 2024 года свидетельствуют о новых перемещениях в связи с обострением войн и вооруженных конфликтов. Сибирь.Реалии – о том, каково приходится детям и подросткам, покинувшим свои дома из-за войны в Украине.
Чтобы не пропускать главные материалы Сибирь.Реалии, подпишитесь на наш YouTube, инстаграм и телеграм
"Чувствую свою ответственность за то, что мы не дали им сформироваться в спокойных условиях"
13-летняя Ева из Украины говорит, что ее жизнь "сломалась", когда она с родителями вынужденно переехала из Украины в Германию.
– Я не смогла себя найти в немецком обществе. Я стала изгоем, меня игнорировал весь класс, потому что не могла говорить по-немецки, как-то себя показать. Если раньше я была президентом класса, всегда была в центре внимания, у меня было много друзей, то теперь у меня не было ничего. Ты никому здесь не сдалась. Что ты вообще приехала? … Я впала в депрессию. Я не хотела ни есть, ни спать, ни жить вообще. Маме было тяжело, и я от нее не ждала поддержки. У меня стирались воспоминания, что было когда-то лучше. Я как будто застряла в болоте и все. У меня были панические атаки, ко мне приезжала скорая раз в три дня, у меня шла кровь из носа, я теряла сознание, – рассказывает Ева.
Ева – участница проекта о подростках-эмигрантах "Где я?", который придумала телеведущая Татьяна Лазарева, и сама оказавшаяся в вынужденной эмиграции. Вместе со съёмочной группой она проехала по городам Европы и пообщалась с российскими и украинскими подростками, в том числе теми, кто покинул свои дома после начала войны. Одни уезжали от бомбежек, другие – из-за антивоенной позиции родителей.
– Когда сошёл первый шок после начала войны, я поняла, что одной из самых уязвимых групп в эмиграции стали подростки. Мы, взрослые, буквально выдернули их из знакомой и понятной среды, где и без того в этом возрасте все бесконечно меняется – скачки гормонов, изменения в собственном теле, новые связи. Только все это обычно происходит в родном месте, где каждая трещинка в стене знакома. А эмиграция – это наш неожиданный удар по ним. Да, конечно, мы делаем это во благо, порой буквально спасая семью из-под пуль. Но я чувствую свою ответственность за то, что мы, взрослые, не дали им возможности сформироваться в спокойных, привычных условиях. Именно поэтому я хочу дать слово им – нашим героям, хочу показать их мягкую силу и удивительную способность меняться. Я верю, что этот проект даст мотивацию на принятие внешних изменений не только подросткам, но и взрослым, – поделилась Татьяна Лазарева.
Премьера программы состоялась на YouTube 4 января. Первый выпуск из Дюссельдорфа посмотрели уже более 85 тысяч человек, второй из Валенсии – более 20 тысяч человек. На проекте подростки рассказывают о том, с какими проблемами столкнулись после переезда, знакомятся с такими же сверстниками-эмигрантами и учатся заново общаться и налаживать связи. Многие из них не нашли себя еще друзей в новой стране и замкнулись в себе. Решать эти проблемы им помогают специальные гости (в каждом выпуске новые): психолог, спортивные тренеры, преподаватель йоги, актриса, певица, архитектор, поваров и других.
Пока отснято четыре выпуска – в Германии, Испании, Литве и Португалии. Героев искали через соцсети и страничку программы в инстаграме, отдавая предпочтение подросткам, оказавшимся в небольших городках, где особенно сложно найти друзей и круг общения. Их забирали на два съемочных дня, причем родителей на съемки не допускали. Татьяна Лазарева говорит, что иной раз детям полезно хотя бы на время почувствовать свободу от родительской опеки, тем более, когда родители и сами переживают стресс эмиграции.
– После съемок передачи мама Евы написала нам, что девочке стало гораздо лучше. У неё практически прошли панические атаки. Представляете, как мало нужно было. Всего-навсего человеку попасть в безопасное пространство, где взрослые люди ей сказали: "Всё нормально. Мы тебя слышим, мы тебя видим, мы тебе поможем, это всё решаемо". Но родители сами порой не справляются. А нужно найти возможность быть вместе с ребенком. Не физически 15 минут с ним побыть, когда мозги думают о чем-то другом, а пообщаться и признаться, что да, очень тяжело, не ты в этом виноват, и не я в этом виновата, такой мир.
В этой передаче мне еще, конечно, ужасно интересно слушать подростков, потому что у них свежий взгляд на мир. Им нужен открытый, честный, доверительный разговор, любовь и забота. У меня у самой младшая дочка пошла в английскую школу в Испании, когда ей было 10. При этом у нее был нулевой английский. Я нанимала ей репетиторов, школа пошла нам встречу и заменила какую-то часть предметов. Это было нелегко. Но я старалась создать для нее максимальную безопасность. Чтобы она приходила домой и могла мне пожаловаться, поделиться. Я ее выслушивала, утешала, говорила: "ничего страшного в этом нет, мы пробьёмся, я тебе помогу". – говорит Татьяна Лазарева.
"Дети не говорили, откуда они приехали, опасаясь, что станут изгоями"
После начала войны из России уехали и не вернулись минимум 650 тысяч человек. Несмотря на то, что это всего 0,5% населения страны, эта эмиграция стала крупнейшей за последние 20 лет в России. Среди стран, куда переехали россияне, лидируют те, куда пускают без виз: Армения (110 тысяч человек), Казахстан (80 тысяч) и Грузия (74 тысячи). Из европейских стран граждане России предпочитали Германию (36 тысяч), Испанию (16 тысяч), Нидерланды (12 тысяч), а около 30 тысяч перебрались в Сербию. Сколько из них детей – неизвестно.
Марина Шенкевич (имя изменено) с сыном и мужем переехали в Грузию из Красноярского края летом 2022 года. Они боялись, что главу семьи либо посадят за антивоенную позицию, которую он не скрывал, либо призовут на войну.
– У нас эмиграция для ребенка, который тогда закончил второй класс, была не очень травматичной. Потому что мы переехали в Батуми, в Грузию. Здесь по сравнению с Сибирью все было в ярких красках, свежий воздух, море каждый день. Знаю по знакомым случаи, когда дети не могли адаптироваться и начинались серьезные проблемы. Поэтому контролировала сон, аппетит, резкие колебания веса в ту или иную сторону, изменение настроения у сына. Но сил на общение с сыном не было вообще. Честно говоря, первые месяцы я просто выполняла весь необходимый функционал: покормить, постирать, вывести погулять. А в остальное время просто лежала на диване. – говорит Марина.
Сына они отдали в русскоязычнуюю школу, которую созали такие же эмигранты из России.
– Поэтому там знали, с какими проблемами сталкиваются ученики и их родители. На первом собрании выяснилось, что многие дети скрывали, откуда они приехали, опасаясь, что станут изгоями. Украинские дети падали на пол при взрывах хлопушек (а в Грузии у детей это любимая забава). Некоторые боялись отпускать отцов и хотели, чтобы те сидели рядом на уроках. У них был страх, что пап заберут на войну. Но учителя смогли их расположить, смогли донести до них, что они в безопасности, что вины детей в происходящем нет, что, если ты русский, то не обязательно плохой. То есть они объясняли детям то, что не смогли объяснить родители из-за депрессии, – поделилась Марина.
В Грузии многие знают русский. Детям, переехавшим в Европу или на другой континент, приходится труднее. Далеко не везде есть русскоязычные школы, и учителя зачастую не вникают в то, с чем пришлось столкнуться их новым ученикам из России.
Людмила Минакова (имя изменено) из Саратова переехала в Аргентину в 2022 году. Говорит, испугалась, что война затянется надолго, а у нее два сына, старшему через три года 18.
– Они изначально не очень хотели уезжать. Я не обсуждала с ними переезд. Просто поставила перед фактом. Они понимают, что мы не вернемся, по крайней мере, пока не закончится война. Но надеются, что это вот-вот произойдет и не сильно вкладываются в интеграцию, в том числе психологически. В России остались папа (он не захотел ехать с нами), бабушка, дедушка. Там привычная среда. Там много вещей, которые лучше и комфортнее, чем здесь. Сыновья сейчас помнят только хорошее из дома и поэтому хотят туда. В Аргентине у них нет друзей из местных, что меня больше всего напрягает. Общаются только с русскоязычными. Хотя здесь очень дружелюбный народ. Здесь иммигрантская страна, чуть ли не каждый житель – иммигрант во втором или в третьем поколении. От учебы не отказываются. Ходят в обычную школу, хотя с испанским у них сложности. Используют Google-переводчик для обучения. Есть стереотип, что дети быстрее учат язык, чем взрослые. Малыши, которые приехали в возрасте до семи лет, они – да. Через два месяца начинают уже говорить, потому что воспринимают новый язык уже как нативную речь. Но с детьми старшего возраста это не работает, – рассказывает Людмила.
В Аргентине на июль прошлого года ВНЖ выдали 11 тысячам гражданам РФ. Всего же после начала войны в Украине из России туда уехало не меньше 75 тысяч человек.
– В первый год собирали всех русскоязычных детей со школы, независимо от класса, и для них проводили два раза в неделю уроки испанского. В Министерстве образования здесь есть отдел по работе с неиспаноговорящими детьми. Его сотрудники проводили совместное родительское собрание. Они при нас, при родителях, учили педагогов взаимодействовать с русскими детьми. Объясняли разницу в системе образования, что ребятишки могут не говорить, но они все понимают. Рассказывали, что на самом деле в России гораздо выше уровень образования, что русские дети, приходя в школу, умеют читать и писать. Учителя немножко прибалдели. У них был настрой всех разогнать по репетиторам, чтобы они срочно все научились говорить по–испански и никак иначе. Полгода назад новый министр образования запретил использование сотовых телефонов в школе. Мы заволновались. Но для иммигрантов эту возможность оставили. В том числе, чтобы они пользовались переводчиком. Школа у сыновей, как детский сад. Они поучились, походили-побродили, порисовали, пошли поиграли в футбол (здесь все при первой возможности в него играют), поели. У них необычная школьная форма – белые халаты. И, конечно, ко все этому надо привыкнуть. Я очень рада, что у меня их двое и они могут друг с другом взаимодействовать, поддерживать. Но, конечно, поддержка психолога не помешала бы, – делится Людмила.
"Она себе обдирала пальцы в кровь"
Самым сложным для эмиграции возрастом психотерапевты считают подростковый. Дошкольнику легче адаптироваться в новом месте, так как у него есть установка: "Если мама и папа рядом, значит, я в безопасности и все в порядке". В подростковом возрасте на первый план выходят социальные связи и чем их больше, тем лучше. Но переезд в новую страну разрывает многие связи, в том числе родственные.
Адель Гафурова (имя изменено) уезжая в прошлом году из Казани, c развелась с мужем, который на все происходящее в стране смотрит иначе, и вместе с младшей дочерью по политической визе (как участница протестных акций) переехала в Германию. Старшей дочери уже есть 18 лет и визу ей не дали. Сейчас для нее ищут возможность получить учебную визу.
– Для меня самым страшным во всей эмиграции было то, что придется везти с собой ребенка, вступающего в пубертат. Прям вот до судорог страшно. Во-первых, в России оставались отец и старшая сестра. Во-вторых, у меня в детстве был опыт переезда. И он мне крови попортил неслабо. Мне было 13 лет, меня отправили к бабушке за 1000 километров от дома. Меня устроили в городскую гимназию – типа, я умная слишком для деревенской школы. Я не меняла язык, но это были 1990-е. И общение было только через Почту России. До сих пор не могу спокойно смотреть первую пиксаровскую "Головоломку" (американский мультфильм о том, что приходится испытать при переезде 11-летней школьнице), реву, потому что это практически моя история. Только у Райли все закончилось хорошо. А у меня ни хрена – в 15 лет я заимела первый депрессивный эпизод, селфхарм и кучу прочих проблем, с которыми справлялась самостоятельно. Поэтому понимание, что я выдергиваю своего ребенка из привычной среды, где у нее статус, друзья, понятный контекст – меня просто убивал. У нас вся подготовка растянулась на три месяца из-за получения политической визы. И это было невыносимо. Я запретила ей рассказывать, куда мы едем и почему – даже лучшей подруге. Господи, как было тяжко, просто не представляете, – рассказывает Адель Гафурова.
Сейчас ее младшая дочка учится в германской государственной школе. С удовольствием изучает немецкий язык. По словам матери, им повезло, что учитель – студентка, которая в детстве сама пережила переезд, поэтому к иммигрантам она относится "максимально бережно и нежно".
– Я прочитала уже множество историй про адаптацию детей в эмиграции. И про "в первый год отстаньте от своих подростков, им и так нелегко". Знаю, что последствия будут. Но пока она адаптируется лучше, чем я (и тогда, и сейчас). У некоторых моих приятельниц-эмигранток дети категорически отказываются учить язык и дружат только с русскоязычными. Моя тут же завела себе парочку местных друзей. Ей тяжело из-за того, что она ужасно общительная и обожает гулять, а в деревне, где мы живем, гулять особо негде и не с кем. Пережитое уже дает о себе знать. Было, что она себе обдирала пальцы в кровь: заусенцы и рядом. Прям ужас как. Сейчас, вроде, перестала. Не вижу у нее сейчас особенной тоски по родине, хотя в последнее время все чаще проскальзывает – а вот в России, а когда я вернусь в Россию... – делится Адель.
"Я немцам даже по началу говорил, что я из Киева, потому что так проще"
Детский психолог Денис Карпов сравнивает подростков в эмиграции с "заложниками" своей ситуации, подчеркивая трудности, связанные с адаптацией к новым условиям жизни. В этот период их эмоции бурлят, и изменения в теле делают окружающую реальность странной и сложной. Подростки стремятся к самостоятельности, но в то же время осознают свою зависимость от родителей. Ситуацию усугубляет то, что родители в эмиграции сами находятся в состоянии стреса, что часто приводит к неадекватному контролю за детьми и только усиливает внутренний диссонанс у подростка. И все это на фоне необходимости овладеть новым языком, адаптироваться к другой культуре, незнакомой школе и новым людям.
– Подросток все равно ребенок, не отдельная единица, которая отвечает за свою жизнь. И как ребенок – нуждается в родителе (который часто не в состоянии обеспечить ощущение безопасности). И ребенок – уже подросток, который нуждается в ощущении независимости от родителя. Два разнонаправленных стремления. Плюс, раз родители больше не ресурс, психика подростка их вычёркивает – получается отсутствие опоры. Страшно, короче. Отсюда повышенная агрессия к родителям, отсюда эмоциональная лабильность, отсюда инфантилизм и демотивация. – объясняет Карпов.
Доктор педагогических наук, автор книги о том, как быть родителем во время войны и в эмиграции "Любовь в условиях турбулентности" Дима Зицер тоже считает, что сложнее всего переезд в другую страну переживают именно подросткам
– Поверьте мне как профессионалу, дети переживают это намного тяжелее, чем взрослые. Это происходит потому, что очень часто родители принимают решения без детей. Ведь очень удобно с человеком, который слабее нас, не вступать в переговоры, а сказать "все, мы уезжаем". А потом, когда мы переехали, сказать ему "всё, я нашёл тебе школу" или "нашла". И человек себя чувствует чемоданом без ручки. Он чувствует себя обделённым, что его не воспринимают всерьёз, что с его мнением не считаются, то есть он никто, и звать его никак, его выбрасывают из семьи в тяжёлой ситуации. Он никогда так не сформулирует, но он же чувствует напряжение вокруг, понимает, что происходит что-то серьёзное, чтобы не сказать ужасное. Да, ему говорят: "ты тут ни при чём". Но это такое одиночество и почти предательство, это жесткое и неприятное ощущение, с которым очень-очень трудно жить. И тогда как следствие происходящего может быть действительно все, что угодно, вплоть до суицида. И абсолютно точно это ведёт к неврозам. Это самое мягкое, что может быть.
Зицер советует во всех ситуациях принимать решения вместе с ребенком,
– Это очень важный момент. Это избавит потом большой процент семей от психолога и психиатра. Полтора месяца назад у меня был тур по Америке, и меня попросили встретиться в одном городе с детьми разного возраста. Я поставил условие, что встреча должна быть без родителей, потому что иначе ничего не получится. Дети наперебой рассказывали о том, как им трудно, как им тяжело, как они не могут выплыть. Потому что у мамы есть папа, у папы есть мама, а у ребенка? – комментирует Дима Зицер. – Человеку пяти лет нужно создавать позитивные ожидания. Нужно немножко фантазировать. Нужно, чтобы, оказавшись в новой стране, он получил немедленные плюсы от этого переезда. Может, даже плюсы неочевидны. Тут есть мороженое, которого не было у меня дома. Здесь есть цветы, которых раньше не видел. У меня есть возможность с мамой больше времени проводить. Здесь мы завели новую традицию и так далее. А что касается людей в так называемом переходном возрасте, там в принципе невозможно принять решение без них. Нам, взрослым, всегда хочется срезать угол: зачем обсуждать с ними переезд, а вдруг он скажет "не хочу". Окей. Но во всех ужасных ситуациях всегда есть какой–то потенциал, есть плюсы. Если раньше что-то у нас было не так, вот сейчас нам дана возможность переписать это. И это круто.
Но обычно все важнейшие решения, связанные с эмиграцией, родители принимают даже не обсудив серьезно всю ситуацию с детьми.
– У меня мама полячка. Но в Польше раньше не была, – рассказывает 14-летняя Софья Лучникова (имя изменено) из Новосибирска. – После начала войны стали собирать документы, чтобы уехать. В ноябре 2022-го получили, родители быстро продали все, что можно, и прям перед Новым годом мы уехали. В России мы жили лучше. У нас и машина была, и в отпуск ездили на море, и покупали больше. В первые дни было интересно, все такое другое, необычное. Но спустя два месяца меня стало все раздражать. Когда мы еще собирались сюда, родители говорили, что в Польше нам будет лучше, будем путешествовать по Европе. Но за два года мы так ни разу и не выехали из страны. Папа постоянно ищет работу, потому что здесь он оказался никому не нужен. Ругаются с мамой. Когда я предложила вернуться в Россию, на меня набросились: "мы переехали ради тебя, ради твоего будущего!" Но меня не спрашивали. В школе отношения так себе. Здесь не любят ни русских, ни украинцев, ни белорусов. Называют "бомжами", "бродягами". Говорят, чтобы мы убирались обратно. Меня еще не сильно прессуют, потому что мама – полька. А других могут и избить. Я хочу обратно в Сибирь, в свою школу и к своим друзьям, а родители не понимают.
15-летний Ярослав Мирошник (имя изменено) в Германию из Петербурга переехал в марте 2022 года. Его мать с Украины. Разговор о переезде зашел в тот же день, когда началась война. В школе пошли на уступки и разрешили досрочно сдать все контрольные и тесты.
– Когда уезжали, даже никому из одноклассников не говорил, а просто перестал ходить в школу. Сначала мне было несложно. Я думал, что это на год-полтора максимум, а потом мы вернемся. Но сейчас понимаю, что мы можем вообще не вернуться. Тяжелее всего мне найти друзей. Я немцам даже поначалу говорил, что я из Киева, потому что так проще, а то были бы вопросы. Но у меня есть друзья из России, и мы с ними общаемся онлайн, играем в компьютерные игры, мне этого хватает. Чувства одиночества у меня нет. Есть ребята, с которыми я говорю иногда, но так чтобы мы куда-то ходили, проводили время – нет. Проблема, наверное, и в языковом барьере, и в том, что они отличаются как люди, они совсем другие и некоторые вещи воспринимают по-другому, – рассказывает Ярослав. – Конечно, я очень хотел обратно и просился в Россию. Для меня дом там и я себя ощущаю русским. Я готов туда вернуться, даже если Путин будет у власти. Я сейчас работаю с психологом, потому что мне стало совсем плохо в какой-то момент, и я не ходил в школу пару месяцев. У меня болела голова, и меня иногда тошнило. Не было сил. Работа с психологом сейчас мне помогает, она со мной на русском общается, и мы уже полтора месяца с ней говорим.
За психологической помощью вынуждены были обратиться и родители Александра Федорова (имя изменено). Их семья уехала из Москвы в Вильнюс два года назад, когда сыну было 11. Его сначала отдали в русскоязычную литовскую школу.
– Много было агрессивных ребят, кто-то из них был местный, а кто-то тоже приехавший. Был буллинг. Не хочется это вспоминать. Были проблемы с учителем литовского, который задавал огромную домашку. За один раз задавали по 40 слов, это на каждом уроке. Но при этом это совсем не помогало учить язык. Потому что из таких объемов было сложно что-то нормально запомнить, – рассказывает Александр. – Было такое, что просился обратно. Много раз хотелось вернуться. Я скучаю даже не по самой России, а потому что это дом и там все знакомо. А здесь новое место и нужно привыкать, это тяжело. Ещё скучаю по своей квартире, она была новая, по своей комнате, по своим вещам.
Полгода назад его перевели в частную школу. Там учиться стало легче. Александра также записали на психологические тренинги по общению и адаптации.
– Дети намного милосерднее, чем взрослые. И дети взрослых щадят. И дети очень часто говорят: у мамы с папой и так много проблем, что я им буду добавлять. Знаете, в моей программе "Любить нельзя воспитывать" за последние три года после начала войны неоднократно разбирали ситуации, когда мама думает, что дочь просто лежит на кровати и не хочет ничего делать, а у неё клиническая депрессия давным-давно. И она не то, что не хочет в школу, она просто встать не может. Большинство этих детей реально лишились многого, были вырваны из культурной и языковой среды, лишились друзей. У них было определённое количество привычек, у них жизнь устаканилась, у них была понятная система координат. А потом родители спрашивают: "Да что не так? Что не хватает? Сын мой, дочь моя, да у тебя есть крыша над головой, у тебя есть еда, у тебя есть школа". А дети тем временем ищут ошмётки этой жизни, ошмётки стабильности. До определённого момента только мы можем дать им эту стабильность, – комментирует Дима Зицер. – Нашим детям нужно заново обрести почву под ногами. И наша задача им в этом помочь. В первую очередь нужно обнаружить себя для ребёнка и ребёнка для себя. Попробуйте ответить на вопрос, зачем вам ребёнок. Он вам зачем? И это очень-очень, знаете, отрезвляет мозги. Да, он вам зачем? Он просто неудобный какой-то придаток семьи, которого надо куда-то определить, засунуть, чтобы потом не жалеть себя за бесцельно прожитые годы или, наоборот, гордиться собой? Или это часть семьи? И тогда всё становится на свои места.