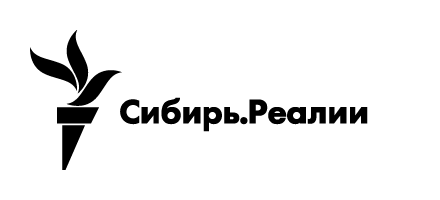200 лет назад, 14-го декабря (по старому стилю) 1825 года на Сенатской площади в Петербурге произошло восстание декабристов, которое стало одной из самых неудачных в мировой истории попыток государственного переворота.
Чтобы не пропускать главные материалы Сибирь.Реалии, подпишитесь на наш YouTube, инстаграм и телеграм
19 января 1827 года. Государственных преступников, покусившихся на государя-императора, отправляют по этапу из Петропавловской крепости в Сибирь. Родственники глубоко возмущены: разве допустимо заковывать дворян в кандалы, когда можно просто запереть оковы замками? Николай I спешит утихомирить недовольных и лично приказывает не заклепывать железа. Охрана спешно скупает замки в ближайших лавочках.
Дмитрий Завалишин – самый молодой из декабристов, не был 14 декабря на Сенатской площади и во многом не разделял взгляды восставших. До сих пор вызывает споры, состоял ли он вообще в каком-то из тайных обществ. Но все это не помешало приговорить его к смертной казни, замененной каторгой.
Ему достается желтый латунный замок с надписью "Кого люблю – тому дарю", а Николаю Бестужеву – с надписью "Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь".
Скандал не утихает. Родные по-прежнему возмущены суровым обращением с государственными преступниками. Княгиня Волконская требует, чтобы ее сыну Сергею незамедлительно отправили серебряную посуду. А все остальные спешат задобрить охрану крупными суммами денег.
Из "Записок декабриста" Дмитрия Завалишина:
"Так как родные моих товарищей успели передать деньги …, то со второй же станции все провожатые очень доверились нам, и фельдъегерь … был больше нашим поваром, нежели надсмотрщиком, и скорее заботился о кухне, нежели о наблюдении за нами. Положась на наше слово, он нас ни в чем не стеснял... Так, например, в Вятской губернии он завез нас даже в сторону от тракта к знакомому своему помещику. … Фельдъегерь … старался, чтобы всегда в повозке было теплое одеяло или тулуп, чтобы укутать мне ноги. … О жандармах нечего и говорить, они обратились вполне в нашу прислугу".
По дороге в Сибирь декабристы останавливаются в лучших гостиницах. Родственники передают им недостающие вещи и деньги, а местное дворянство присылает обеды и тайком приезжает с визитами. Добравшись до Тобольска, заключенные изъявляют желание отправиться с баню. Губернатор незамедлительно присылает им карету и сопровождающих.
Тем временем для декабристов строят особую тюрьму в Акатуе. Узнав об этом, родственники в столице снова начинают протестовать: Акатуй они считают слишком нездоровым местом. Николай I уступает давлению и лично успокаивает недовольных, уверяя, что Акатуй строится не для их родных. Правительство срочно отдает распоряжение построить тюрьму в другом месте – при Петровском железном заводе. Декабристы более трех лет дожидаются окончания его строительства в превращенном в тюрьму деревянном доме в Чите, отбывая "каторжные" работы.
В августе 1828 года по особому распоряжению императора Николая I с них снимают кандалы. Потом разрешают за счет собственных средств стоить на тюремном дворе отдельные дома. Прибывшие из столицы жены также строят в Чите дома, куда все чаще отпускают из острога их мужей.
Из "Записок декабриста" Дмитрия Завалишина:
"Труднее всего для правительства было устроить нашу работу. Прямо отказаться от нее по непреложности к нам работы на заводах и в рудниках оно не хотело, и потому придумывали разные пустяки, в которых собственно никакой работы не было, а только мучили нас понапрасну. Сначала вздумали в Чите засыпать какой-то песчаный овраг, который прозвали "Чертова могила", потому что от всякого дождя его размывало. Разумеется, о работе никто и не думал, но чрезвычайно неприятно было ходить два раза в день на работу и находиться на открытом воздухе, а особенно в ветреный день, когда несло песок, или в дождливый, хотя мы и устроили после навес около деревьев.
… Перед тем, как идти на работу, начиналась суета между сторожами в казематах и прислугою в домах наших дам. Несут на место работы книги, газеты, шахматы, завтрак или самовары, чай и кофе, складные стулья, ковры и пр. Казенные рабочие в то же время везут носилки, тачки и лопаты, если работа на воздухе у "Чертовой могилы". Наконец приходит офицер и говорит: "Господа, пора на работу. Кто сегодня идет?" (потому что по очереди многие сказываются больными и объявляют, что не могут идти). Если уже слишком мало собираются, то офицер говорит: "Да прибавьтесь же, господа, еще кто-нибудь. А то комендант заметит, что очень мало". На это иной раз кто-нибудь и отзовется: "Ну, пожалуй, и я пойду".
… Место работы превращается в клуб; кто читает газеты, кто играет в шахматы; там и сям кто-нибудь для забавы насыпает тачку и с хохотом опрокинет землю и с тачкою в овраг, туда же летят и носилки вместе с землею; и вот присутствующие при работе зрители, чующие поживу, большею частью мальчишки, а иногда и кто-нибудь из караульных, отправляются доставлять изо рва за пятаки тачку или носилки".
Самой большой проблемой остается организация достойного питания: многие овощи и фрукты не получается выписать из столиц. Местных ребятишек обучили собирать шампиньоны и выкапывать молодой цикорий, но этого все равно недостаточно. Поэтому декабристы разбивают собственные обширные огороды, сады и парники, устраивают фермы, чтобы продовольствия хватало не только им самим, но и многочисленной челяди.
Из "Записок декабриста" Завалишина:
"Пребывание в Чите развило там, как впоследствии и в Петровском заводе, улучшенное скотоводство и птицеводство, вследствие большой потребности разных молочных произведений и птицы для каземата. Надобно сказать, что потребность провизии развилась до больших размеров вследствие несоразмерного количества прислуги, которую держали как в каземате, так и в домах некоторых женатых. У Трубецкого и Волконского было человек по 25; в каземате более сорока. Кроме сторожей и личной прислуги у многих, и у каземата были свои повара, хлебники, квасники, огородники, банщики, свинопасы…
Прислуга состояла вся на наше жалованье и содержание, и ее было очень много. В каземате было 12 отделений, и в каждом по одному сторожу из инвалидов, да по прислужнику из ссыльных, кроме того, четыре повара, два хлебопека, два банщика, два огородника и работник, смотревший за свиным хлевом. Баня и огороды были устроены на наш счет; мытьем белья занимались преимущественно солдатские жены".
Несмотря на обилие прислуги, декабристы по-прежнему недовольны суровыми условиями заключения в Чите. Особенно тем, что охрана портит и пачкает обеды и ужины, которые повара передают им в тюрьму: мало того, что ломают пироги в поисках записок, да еще и крадут часть начинки! Но вскоре и эта проблема решается.
Из "Записок декабриста" Завалишина:
"И хотя правительство не пожалело огромных расходов на постройку каземата …, но поскупилось прибавить на содержание и потому разрешило родным присылать нам деньги, сначала по 500 рублей ассиг. на одинокого и по 2000 р. ассиг. дамам … ; но когда поставлено было на вид, что другие ничего не будут получать, или вовсе не имея родных, или у кого родные бедны, то разрешено получать и более, чтобы помогать товарищам; и вот под этим предлогом и начали иные получать даже десятками тысяч. Когда потом свели общие счеты за все время, то оказалось, что, кроме ценности посылок, один каземат получал в год около 400 тысяч ассигнациями. Что же касается до посылок, то каждую неделю приходил из Иркутска целый обоз в сопровождении казака. Посылали платье, книги, провизию и даже такие вещи, как московские калачи, сайки и пр. …при таком обилии денег явилось в Чите двенадцать хороших лавок, и в некоторых из них можно было достать все, что только продавалось в России".
Когда новый острог наконец-то готов, декабристы – каждый на своей повозке, со всей прислугою – отправляются в долгий путь за 600 верст. Прибыв в Петровский завод, они приходят к выводу, что острог слишком тесен: всего по одной комнате на каждого заключенного, да и столовая только одна. Поэтому они снова добиваются разрешения строить внутри ограды собственные домики. Тюремный двор превращаются в уютный сад с качелями, скамейками и солнечными часами, а зимой в нем устраиваются каток и горки для катания.
Свои дома, как до этого в Чите, строят и жены декабристов. Отстраивается и многочисленная свита – врачи, аптекари, повара, швеи, гувернантки, прислуга и пр.
Когда все вокруг начинают от них зависеть, декабристы добиваются еще больших послаблений. Они получают право выписывать книги, журналы и газеты из столиц и из-за границы. Вскоре библиотека в каземате достигает нескольких десятков тысяч томов, включая редкие и дорогие издания. Чтобы скрасить досуг, декабристы решают обучаться "народным" ремеслам – переплетному, столярному, токарному и часовому делу, кулинарии и т.д. Они выписывают "лучшие руководства на всех главных европейских языках, чертежи и отличные инструменты". По вечерам устраиваются концерты, для чего доставляются дорогие инструменты: "одних только фортепиано было восемь". А "каторжные" работы окончательно превращаются в фарс.
Из "Записок декабриста" Дмитрия Завалишина:
"В Петровском заводе работы на открытом воздухе не было. В заводские работы посылать не отваживались. Поэтому там и построили мельницу с ручными жерновами. … Поставили в какой-то избе ручные жернова … и назначили нам молоть по 10 фунтов зернового хлеба в день. Разумеется, и тут никто не работал, кроме тех, кто сам хотел упражняться в этом для моциона. Работать же нанимались за нас сторожа на мельнице по 10 к. с человека, т.е. за 10 фунтов.
… Но климат в Петровском заводе был несравненно хуже, чем в Чите. Начались болезни, и вместе с тем и жалобы наших дам в Петербург. Последовали разные ограничения работы; не велено было посылать в сильные морозы, потом в сильные дожди, затем в сильные ветры"…
Жизнь становится все легче. Те, кто увлекаются медициной, первыми получают право свободного выхода в город. Мужей начинают отпускать к женам на свидание не только на целый день, но и на несколько дней подряд. Их приятелям разрешают ходить к женатым в гости, чтобы "помогать по домашним хлопотам". А летом все заключенные без исключения отдыхают в отстроенной на собственные деньги бане, где собирается на пикники все местное общество. Званые обеды, балы и карточные игры становятся обычным досугом.
"Все это кончилось тем, что в последнее время, при втором коменданте, стали отпускать всех беспрепятственно, так что трудно было даже понять, для чего и для кого стоят караульные в каземате. Раз вошел ко мне второй комендант при нас, Григорий Максимович Ребиндер, и перекрестился: "Ну, слава Богу, – сказал он, – хоть вас застал дома; а то хоть шаром покати, – весь каземат пустой".
– Дмитрий Завалишин – единственный, кто настолько подробно и точно описал бытовые условия пребывания декабристов в Сибири, – говорит доктор исторических наук Алексей Кравченко (имя изменено из соображений безопасности). – Созданная им картина шла вразрез с начавшим формироваться еще при жизни декабристов образом "позолоченных мучеников". Она могла вызвать скорее презрение к декабристам, чем гордость за них. Поэтому фундаментальный труд Завалишина "Записки декабриста" был издан в России лишь однажды, в 1906 году. А советское декабристоведение и вовсе никогда не издавало эту книгу, старалось сделать вид, что ее не существует. Даже цитировались "Записки" крайне редко: упоминались только те факты, которые не мешали созданию сусального образа "первых революционеров". Меж тем современные исследования показывают, что воспоминания Завалишина – ценнейший источник исторической информации, которая находит подтверждение во многих других источниках. Несмотря на это, мемуарное наследие Завалишина – как рукописное, так и печатное, – остается фактически не изученным и еще ждет серьезного анализа.
"Не туда ведет Россию, куда следует"
Будущий декабрист родился 13 июня 1804 года в семье Иринарха Ивановича Завалишина, служившего под командованием Александра Суворова во время польской кампании 1794 года и уже к 30 годам получившего чин генерал-майора. Сына Завалишин воспитывал в строгости: ребенку не давали игрушек, с младенчества приучая к серьезным занятиям. Уже в 4 года малыш научился читать. Через пару лет начал вести дневник, чтобы следить за своим развитием и образованием. Повзрослев, полностью отказался от вина, карт и танцев, чтобы они не отвлекали от важных дел.
Мать Завалишина, выпускница Смольного института Мария Черняева, умерла, когда сыну было шесть лет. Отец женился во второй раз на Надежде Толстой, чья родная сестра была матерью поэта Федора Тютчева.
В 12 лет Дмитрия отдали в Морской корпус. Невысокого роста, тщедушный Завалишин непрерывно занимался упражнениями и закаливаниями, чтобы подготовиться к тяготам службы. Всего через год он вошел в число 12 лучших учеников и отправился на корабле "Феникс" в Стокгольм и Копенгаген вместе с будущим автором "Толкового словаря великорусского языка" Владимиром Далем.
В 16 лет Завалишин стал преподавателем Морского корпуса, читал лекции по математике, механике и морской тактике, которые изучил самостоятельно. К тому времени он великолепно владел французским, немецким, английским, испанским и польским языками, а также латынью. Знания и организаторские способности молодого преподавателя по достоинству оценил один из первооткрывателей Антарктиды, будущий адмирал Михаил Лазарев. Он как раз готовился к кругосветному путешествию на фрегате "Крейсер", и поручил Завалишину перестройку артиллерии и гребных судов. А когда тот отлично справился со всеми задачами, Лазарев предложил 17-летнему моряку пополнить команду.
За время долгого плавания Завалишин загорелся идеей создать "Орден восстановления истины", по образцу мальтийского. Цель была более чем амбициозная: превратить Россию в мировую державу через восстановление нравственности. Самого себя создатель Ордена скромно прочил в великие магистры.
Как только идея оформилась окончательно, Завалишин отправил письмо с предложением об организации Ордена на имя императора. Зная, "что этот поступок мог стоить мне потери всей карьеры, может быть, и вечного заточения, если бы меня сочли за сумасшедшего", он потребовал личного свидания с государем, "желая объяснить, что он не туда идет и не туда ведет Россию, куда следует". Получив это странное послание, Александр I повелел автору незамедлительно вернуться в Петербург.
Завалишин тем временем добрался до Ситки, где полностью погрузился в изучение дел Российско-Американской компании. Далее "Крейсер" отправлялся в Калифорнию, в залив Сан-Франциско. Прибыв в Форт-Росс, Завалишин решил, что именно эти места идеальны для основания Ордена.
Калифорния на тот момент уже отделилась от Мексики, но еще не присоединилась к США, и Завалишин понял: нельзя упускать шанс сделать ее русской. Заручившись поддержкой Российско-Американской компании, он развил бешеную деятельность, чтобы претворить эту идею в жизнь. "Калифорния была в таком положении, что легко могла стать театром действий человека, одаренного умом и предприимчивостью. Завалишин имел то и другое", – докладывал потом Николаю I председатель следственной комиссии по делу декабристов генерал Василий Левашов.
Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Завалишин не получил, наконец, письмо от императора с приказом вернуться в Россию. Он бросил все и поспешил на встречу с Александром I, с немыслимой для тех времен скоростью пересек всю Сибирь. Но в день, когда была назначена аудиенция, началось великое наводнение, описанное Пушкиным в "Медном всаднике". В затопленном городе императору было не до встреч, и он передал бумаги Завалишина комиссии из Аракчеева, Нессельроде, Мордвинова и Шишкова. Последний и сообщил автору проекта, что Александр I считает идею Ордена "увлекательной, но неудобоисполнимой".
Поскольку государь формально не запретил Орден, Завалишин решил самостоятельно заняться его созданием. На этой почве он познакомился с Кондратием Рылеевым и другими декабристами из Северного общества, однако не нашел с ними полного взаимопонимания.
Узнав от Рылеева о тайном обществе, Завалишин тут же предложил ему объединение с Орденом. А заодно рассказал, что писал об Ордене императору. Это вызвало подозрения у заговорщиков. До сих пор остается под сомнением вопрос, был ли Завалишин членом Северного общества. Михаил Бестужев утверждал, что его не приняли. Однако на следствии некоторые флотские офицеры утверждали обратное. Поскольку Завалишин был связан с декабристами прежде всего через Рылеева, его свидетельство в этом вопросе решающее. Константин Торсон дал показания, что слышал от Рылеева, будто он принял Завалишина в общество. Однако сам Рылеев это отрицал. Он говорил, что держал себя с Завалишиным осторожно: "хотя я открыл ему, что и в России существует общество, имеющее целью ввести монархический представительный образ правления, но принять его в члены почел себя не в праве".
"Сознательно решился остаться в России"
В день восстания Завалишин был в отпуске, отдыхал в имении мачехи в Казани и не принимал участия в событиях на Сенатской площади. Тем не менее Рылеев на допросе назвал его имя, и Завалишин получил приказ незамедлительно явиться в следственную комиссию. Заявив об идейных разногласиях с декабристами, он в тот же день был освобожден "по высочайшему повелению" и даже назначен на новую должность – начальника Морского музея.
Завалишин воспользовался свободой, чтобы обратился к Николаю I с планом расширения российских владений в Калифорнии. Он настаивал, что без этого невозможно удержать русские владения в Америке. А заодно предлагал присоединить и Гавайи, пусть кормят Аляску.
О своей собственной судьбе молодой реформатор беспокоился куда меньше.
Из мемуаров Завалишина "Записки декабриста":
"Я знал существование для меня опасности, знал, что каждую минуту может открыться, особенно через офицеров Гвардейского экипажа, мое деятельное участие в приготовлении переворота и, несмотря на это, сознательно решился остаться в России, имея все средства и достаточно времени к побегу за границу".
Через полтора месяца еще один декабрист, мичман Дивов назвал имя Завалишина на допросе, и его снова арестовали. На гауптвахте Главного штаба он делил камеру с Александром Грибоедовым. Это заключение сложно было назвать излишне суровым.
Из воспоминаний Завалишина о Грибоедове:
"Узнавши, что Грибоедов хорошо играет на фортепиано, Ж <уковский> (офицер, которому был поручен надзор над декабристами – прим. С.Р.), как любитель музыки, стал водить его и меня в кондитерскую Лоредо, находившуюся на углу Адмиралтейской площади и Невского проспекта. … В этой комнате стояло фортепиано; мы приходили обыкновенно часов в 7 вечера и проводили там часа полтора; Грибоедов играл, Ж <уковский> слушал его, а я читал газеты".
Следствие по делу Завалишина зашло было в тупик, но тут последовал новый донос – от младшего брата Завалишина Ипполита. Он подстерег Николая I на прогулке и вручил письмо, в котором обвинил старшего брата в государственной измене во время плавания в Америку: Дмитрий Завалишин якобы получал от иностранных правительств "огромные суммы для произведения смут в России". Изучив документы, следствие сочло обвинение ложным, Ипполита разжаловали в солдаты и отправили служить в Оренбург.
На его старшего брата тем временем дали новые показания Рылеев и ряд других декабристов. Они утверждали, что Завалишин знал об их планах и одобрял их методы. В результате его перевели в Петропавловскую крепость, где условия были несопоставимо хуже.
Из мемуаров Завалишина "Записки декабриста":
"Гвардейские солдаты, стоявшие в коридоре на часах, были к нам необыкновенно внимательны и почтительны. Они иногда оставляли двери наших каморок отпертыми, чтобы нам можно было разговаривать. Денег на стол отпускалось довольно, но было страшное воровство, и только в те дни, когда знали, что приедет генерал-адъютант для опроса, кушанье и чай были получше. Столом заведовал плац-майор Подушкин; он-то нас и обворовывал; и только тем, за кого родные платили особливо, он поставлял кушанье лучше, со своей, как говорил, кухни.
… Порядок в равелине был следующий: время для вставания не определялось. Каждый вставал, когда хотел, но за этим наблюдали. Лишь только арестант встанет, не пройдет и десяти минут, как является комендант с большим числом сторожей. Пока один подает умываться, другие убирают комнату и приносят чай, если кому он полагается. Горячую воду, впрочем, приносят в чайнике, а самовара не подают.
… Обед, вечерний чай и ужин подавали, когда спросим; только последний не позже 9 часов. Ночью горел всегда ночник. … По предписанию доктора водили гулять в садик в сопровождении инвалида".
"Я увидел девушку замечательной красоты"
По обвинению в согласии с умыслом цареубийства Верховный суд приговорил Завалишина к смертной казни "через отсечение головы", которую заменили сначала на пожизненную, а потом двадцатилетнюю каторгу.
Когда декабристы добрались до Читы, их тепло приняло многочисленное семейство начальника горного округа Семена Смолянинова. Аполлинария, четвертая по старшинству дочь, с первого взгляда влюбилась в Завалишина и твердо заявила родителям, что не выйдет замуж ни за кого другого, кроме него. Декабрист был бы и рад ответить девушке взаимностью, но впереди было еще 17 лет заключения.
Из "Записок декабриста" Завалишина:
"Я увидел девушку замечательной красоты. Она усиливалась еще вследствие усилий под наружным спокойствием скрыть душевное волнение, охватившее ее при свидании со мною. Впрочем, красота ее не произвела на меня ни малейшего впечатления, и не красота развила во мне впоследствии сильное и искреннее чувство, а сознание долга и ее нравственные качества. … Молча протянула она мне свою дрожащую руку. Я высказал ей все, что, по моему убеждению, обязан был, как честный человек, сказать, чтобы отклонить ее от ее намерения".
Все годы заключения в Читинском остроге Завалишин избегал любых излишеств. Он стал вегетарианцем, не ел ничего, кроме овощей, и полностью сосредоточился на умственной работе, занимаясь ею по 18 часов в сутки. Учил новые иностранные языки и к концу своего пребывания в Сибири знал уже 14. Изучал географию Забайкальского края, составлял его карту. А главным своим делом считал перевод Священного писания с еврейского и греческого подлинников.
В 1835 году, уже в Петровском заводе, Завалишина избрали "хозяином" знаменитой "Большой артели", которую историки считают первой потребительской кооперацией в России. Деньги, которые получали от родных декабристы, поступали в общий котел и затем тратились на текущие расходы, на помощь нуждающимся и на инвестиции в местный бизнес.
Аполлинария не изменила своего решения. Она все время писала своему избраннику, была готова в любой момент приехать к нему и стать его женой, пусть и в каземате. Когда до освобождения осталось совсем недолго, Завалишин согласился на этот план. Он нанял и обустроил дом, в котором они должны были поселиться вместе, но в последний момент все сорвалось: Аполлинария неожиданно заболела.
Когда срок заключения истек, большинство декабристов отправились на поселение в Иркутск. Завалишин единственный выбрал город, где жила его невеста. "Я ускакал сломя голову прежде всех и по ближайшему же почтовому тракту в Читу", – признавался он.
Отправлявшиеся на поселение декабристы получали пособия из общей кассы, но Завалишин отказался от денег, рассчитывая на помощь родных. К его глубокому разочарованию, эти надежды оказались ошибочными, пришлось рассчитывать только на собственные силы. Это было нелегко, особенно учитывая, что почти сразу по приезде, 27 августа 1839 года Завалишин женился на Аполлинарии.
Отец семейства к тому времени умер, не оставив наследства, осиротевшей большой семье нужна была помощь. Завалишину пришлось поселиться в доме тещи и взять на себя все заботы о хозяйстве. Он восстановил обветшавший дом, самый старый во всей Чите, а на 15 десятинах "никудышной" земли, предоставленной ему как поселенцу, завел образцовое приусадебное хозяйство.
Из "Записок декабриста" Завалишина:
"Чтобы все узнать по собственному опыту, я прошел все работы, исполняя их очень серьезно и всегда настолько, чтобы быть в состоянии составить себе о всякой работе правильное понятие. Я рубил лес, пилил его, расчищал землю, пахал, боронил, сеял, жал, косил сено, копал гряды, сажал деревья, объезжал диких лошадей, был плотником, столяром, каменщиком, слесарем, стекольщиком, маляром и пр., во всякое время и при всякой погоде, в жару и ветер, на песчаной почве, в лесу с оводами и комарами, в ненастье и вьюгу, знал во всем точный расчет работы и что по справедливости могу требовать от работников".
– Когда в Читу прислали декабристов, это была всего лишь деревушка заводского ведомства. Совсем маленькая – всего 75 домов, все деревянные. Жителей – 393 человека. Три с половиной года пребывания декабристов дали серьезный толчок развитию Читы, благодаря которому через четверть века она превратилась в город. А Дмитрий Иринархович Завалишин внес самый большой, поистине неоценимый вклад, – отмечает Татьяна Поликарпова (имя изменено из соображений безопасности), сотрудник Забайкальского краевого краеведческого музея им. А.К. Кузнецова. – Выйдя на поселение, Дмитрий Иринархович за счет собственных средств стал улучшать породы скота, которые разводили в Забайкалье. Излишки молока с собственной фермы он бесплатно раздавал кормящим матерям из бедных семей. Завалишин выписывал из Центральной России и безвозмездно распространял семена новых сортов растений. Сам выращивал неизвестные до этого в Сибири овощи и фрукты. Акклиматизировал к суровому климату арбузы, дыни, вишни и турецкие огурцы. Делился чертежами простых в изготовлении сельскохозяйственных машин, и уже в первый же год ввел в широкое употребление молотильные катки. Разбил огород лекарственных трав и бесплатно принимал всех, кто нуждался в медицинской помощи, заказывал для них лекарства или изготавливал их самостоятельно, не требуя за это оплаты.
Оставшееся от хлопот по хозяйству время Завалишин посвящал делу, которое считал не менее важным – образованию жены и ее сестер. Он преподавал им латинский и французский языки, историю, географию, математику, музыку и рисование. А заодно навел образцовый порядок в доме, в зародыше пресекая пьянство, курение, брань, карточные игры и пр.
Из "Записок декабриста" Завалишина:
"… могу сказать, что, пока жил в Чите, семейство мое не видало унизительного зрелища пьяного человека в доме. Что же касается попытки посторонних посетителей курить, выпить лишнюю рюмку, поиграть в карты, то какое бы ни было звание посетителя, я отклонял все это спокойным, но твердым объявлением, что ничто подобное в доме у меня не допускается.
… Устройство дома было у меня образцовое. Дом был самый теплый, самый сухой и с чистым воздухом, комнаты очень большие, украшенные цветами и растениями всех родов. … В комнатах стояло до 600 растений, от огромных лимонных деревьев, роз, кипарисов и пр. в кадках до горшочков самого мелкого разбора на этажерках".
"Ужасное время переживал я тогда"
В 1845 году Аполлинария скончалась после продолжительной болезни, не оставив детей. Перед смертью она взяла с мужа обещание, что он позаботится о ее семье. Завалишин сдержал слово. Товарищи по заключению предлагали ему перебраться из Восточной Сибири в Западную, поближе к ним, но Завалишин категорически отказался. После смерти жены он впал в тяжелую депрессию.
Из "Записок декабриста" Завалишина:
"Ужасное время переживал я тогда. В течение долгой семимесячной ее болезни я не отходил от нее; служил ей во всем своими собственными руками, и она не терпела возле себя никого, кроме меня; я и спал на полу возле ее постели. Но когда я говорю, что я спал, то это только известная форма выражения. В действительности я только ложился, чтобы часто немедленно вставать и проводить ночь с нею в долгих разговорах. Она страдала бессонницею. Плоть ее изнемогала, но дух просветлел необычайно, и не часто случалось мне вести такие возвышенные беседы, как с нею".
Оставшись один, Завалишин перестал развивать дальше собственное хозяйство и сосредоточился на общественной деятельности. Как и в годы заключения в каземате, он работал по 18 часов в сутки.
– Дмитрий Иринархович добился, чтобы вновь открылись закрытые из-за недостатка средств крестьянская и казачья школы, на свои деньги купил для них учебники. Помог восстановить приходские школы в окрестных селениях. Организовал еще одну школу в собственном доме, куда принимал мальчиков и девочек без разбора, чьи они дети – чиновничьи или простых крестьян. Все предметы в этой школе он преподавал сам. Никакой платы с бедных учеников не требовал, наоборот, назначал пособия нуждающимся, – рассказывает Татьяна Поликарпова. – Завалишин всем, чем мог, помогал простым людям, был постоянных ходатаем по их делам перед местными чиновниками.
Из "Записок декабриста" Завалишина:
"Это было, когда Чита была сделана уже городом. Полицмейстер, желая сорвать взятку с новоприезжего с семейством купца, схватил его и посадил в острог. Бедная жена его, не успевшая еще осмотреться на квартире, по совету хозяина дома прибежала ко мне ночью рассказать все дело. Убедясь в законности его, я велел заложить сани и безотлагательно отправился с нею к губернатору. Разбудив его, я до тех пор не вышел из его спальни, пока не вынес с собою два письменных приказания: одно о немедленном освобождении купца, другое о смене полицмейстера".
Завалишин продолжал изучать Забайкальский край, размышлял о его роли в истории России. Как только в августе 1848 года в Читу прибыл новый губернатор – недавно назначенный Николай Муравьев, – Завалишин предложил ему свою помощь. Делом первой необходимости он считал искоренение коррупции и воровства среди сибирских чиновников. Другим важнейшим направлением работы считал преобразование Читы в город, столицу всего Забайкальского края.
– Вклад Дмитрия Иринарховича в развитие и начальное благоустройство Читы не забыт жителями города, – уверяет Татьяна Поликарпова. – Завалишин сумел доказать, что Чита имеет географические и инфраструктурные преимущества перед Нерчинском, старейшим городом региона, и должна стать центром всего Забайкальского края. Он не просто прописал все этапы на этом пути, но и разработал план правильной систематической застройки и благоустройства Читы. Тщательно изучив местность, он убедил горное начальство, что все новые здание необходимо строить согласно этому плану еще до того, как Чита получит статус города. Поэтому в последующие годы не пришлось разрушать ни одно из значимых строений. Более того, Завалишин совершенно безвозмездно выполнял работу землемера, размечая новые кварталы и отводя земли под строительство. Именно ему современная Чита обязана своей четкой планировкой.
Из "Записок декабриста" Завалишина:
"… имея в виду необходимость обращения Читы в город, я давно уже изучал местность с этою целью, составил план города …, чтобы все новые постройки, еще задолго до открытия города, соображались с этим планом. Таким образом не пришлось трогать ни одного из лучших домов. Что же касается до изб и лачуг, из которых состояла большею частью Чита, то, чтобы не нарушить интересов владетелей их, а, напротив, еще сделать для них самих выгодным сообразование с планом, я составил, при содействии военного губернатора, небольшой капитал по подписке, из которого или покупались старые дома, или давались пособия для перенесения на указанное место, если дом годился еще на переноску.
… основывая город в Чите, я должен был пожертвовать всем своим сельским хозяйством, составлявшим главное мое обеспечение, и даже отдал в пользу города без всякого вознаграждения дорого стоившие мне, расчищенные мною из-под леса пашни…"
"Был либералом лишь до поры до времени"
Муравьев поначалу восторженно принял идеи Завалишина, но со временем отношения между ними разладились. Декабрист не одобрял насильственного заселения края казаками, тем более, земель, которые каждый год затапливало при разливе рек. Его ужасал произвол, который творили чиновники по отношению к переселенцам. Он считал преступлением уничтожение традиционной для Забайкалья добычи серебра и переход к добыче золота. Полагал вредной авантюрой Айгунский трактат, а присоединение Амура называл "злокачественной язвой" на теле России. Обвинял окружение губернатора в том, что оно не заботится об общем благе, а "расточает деньги на кутеж, карты и разврат". Об всем этом Завалишин писал разоблачительные статьи в столичные журналы, чем попортил Муравьеву немало крови.
Губернатор попытался избавиться от неудобного декабриста.
Из "Записок декабриста" Завалишина:
"… он (Муравьев) сделал представление в Петербург, что здоровье мое требует пребывания в более мягком климате, а так как Минусинский край считается Италией Сибири, то он и просит о переводе меня туда из Читы. Этим надеялся он достигнуть двух целей – удалить меня из Забайкальского края, главного поприща его насилий и обманов, но в то же время оставить меня все-таки в Восточной Сибири в его заведовании, чтобы иметь возможность с помощью хотя бы и незаконных мер (например, распечатания и перехватывания писем и пр.) воспрепятствовать передаче в Россию сведений обо всем уже известном мне".
На этот раз спровадить Завалишина в Минусинск не удалось: уверенный в своей правоте декабрист потребовал открытого разбирательства, на которое Муравьев не решился. Завалишин остался в Чите и после 1856 года, когда Александр II издал манифест об амнистии и декабристы получили право вернуться из Сибири. Завалишин был глубоко убежден – в Чите он принесет больше пользы Отечеству. А еще он не мог бросить доверенную ему Аполлинарией семью, а денег, чтобы перевезти всех, у него не было.
Оставшись в Чите, Завалишин продолжал неистово разоблачать в печати все огрехи Муравьева. Его статьи вызывали такой ажиотаж, что Герцен предложил печатать их без цензуры, за границей.
Из "Записок декабриста" Завалишина:
"Я отказался посылать статьи для напечатания за границу. Я сказал Герцену, что слово может действительно быть сильным и великим делом, но только тогда, когда человек подвергается за него ответственности…
… Между тем все самые значительные журналы в России наполнились выписками из моих статей и заговорили о них; и если таково было впечатление в Петербурге и в России, то можно себе представить, какое впечатление мои статьи должны были произвести в Сибири, на самом театре описываемых действий; в Сибири, где никогда еще не раздавалось свободное слово, где привыкли действовать тайными доносами и глухою только оппозицией, где начальники привыкли сажать в острог без суда всякого осмелившегося сказать хоть слово всякое неугодное им лицо".
Муравьев пожаловался на "кляузника", который не дает ему работать, самому императору. Александр II запретил газетам и журналам печатать статьи за подписью Завалишина. Но упрямый декабрист не успокоился и стал отправлять статьи анонимно. Доведенный до крайности Муравьев буквально умолял императора убрать Завалишина из подведомственной ему губернии. Он просил отправить его в любую точку земли – хоть на курорт, пребывание на котором до конца жизни предлагал оплатить из собственных средства. И наконец, в 1863 году Муравьев добился, чтобы "по высочайшему повелению" Завалишина лишили права на поселение в Чите и сослали из Сибири в Казань "под бдительный полицейский надзор".
Из "Записок" мореплавателя Александра Линдена:
"… Муравьев был либералом лишь до поры до времени и, не вынося критики своих административных распоряжений, быстро переменял милость на гнев, как только кто-либо позволял себе осуждать те или другие принимаемые им меры, в особенности касавшиеся Амурского края. К числу лиц, на которых обрушилось со всею силою негодование Муравьева, принадлежал декабрист Д.И. Завалишин, живший в Чите, пользовавшийся всеобщим уважением … Кто в те времена был на Амуре, как например я, и видел воочию неприглядную картину переселений, – тот, разумеется, скажет, что Завалишин писал правду, но Муравьев до такой степени против него озлился, что начал настаивать о выселении Завалишина из пределов Восточной Сибири, что в конце концов ему и удалось. И вот этот выдающийся по уму и образованию старик, сроднившийся с своею Читою, под конец жизни должен был волею-неволею переехать на жительство в Москву".
Когда Завалишина под конвоем доставили в Казань, запротестовал уже казанский губернатор. Он не без оснований опасался, что приезд столь скандальной персоны спровоцирует студенческие волнения. Тогда Завалишин отправился в Москву. По закону об амнистии декабристам запрещалось проживание в столицах: Муравьев, Оболенский и Батеньков были даже высланы из Москвы. Но когда Завалишин в 1862 году вернулся в столицу, его оставили в покое.
"Рассказал обо всех темных сторонах"
Декабрист не оставил литературной деятельность: его перу принадлежит более 200 изданных сочинений, из них 12 – отдельные книги. Из своих скудных литературных доходов он продолжал поддерживать родственников жены в Чите. А отремонтированный своими руками дом после смерти последней из своячениц передал в дар духовному училищу.
Главным трудом Завалишина стали объемные мемуары "Записки декабриста". Однако опубликовать их при жизни он не смог.
– Несколько глав "Записок декабриста" были опубликованы в журнале "Древняя и новая Россия" в 1879 году и в "Русской старине" в 1881 году, после чего разразился страшный скандал, – рассказывает Алексей Кравченко. – Дело в том, что автор не последовал совету декабриста Андрея Розена "предать ради памяти наших чистых товарищей забвению гадости нечистых: от последних нет пользы ни отечеству, ни обществу, а только могут помрачить светлые стороны, выказанные многими из наших истинных товарищей". Мемуары остальных декабристов, которыми зачитывалось русское общество, выставляли их с доброй стороны. А Завалишин не пожелал окрасить свои воспоминания в розовый цвет и рассказал обо всех темных сторонах. У него поднялась рука на все признанные авторитеты, даже на казненного "мученика" Кондратия Рылеева. Поэтому как только были опубликованы первые главы, на Завалишина обрушились с яростной критикой еще остававшиеся в живых декабристы Александр Фролов и Петр Свистунов, которым Завалишин посвятил много обличающих строк. Про Свистунова, к примеру, он писал, что тот покупал "у бесчестных родителей по деревням молодых невинных девушек, которых потом переодетых проводили в каземат". А Фролова обвинил в полном нежелании хоть чему-нибудь учиться.
Обвинения Фролова и Свистунова упали на благодатную почву.
– Завалишин был человеком с невероятным самомнением и явно переоценивал свое значение, в том числе и в мемуарах. Его отличительная черта – зашкаливающая уверенность в своей правоте, которая позволяла говорить обо всем так, как он считает нужным. Неудобный и опасный – так о Завалишине имели полное право сказать не только представители власти, но и единомышленники в оппозиции, – полагает Алексей Кравченко. – Из-за разгоревшегося скандала редакторы отказались печатать продолжение "Записок", хотя современные исследования показывают, что во многих спорах Завалишин был куда ближе к истине, чем его оппоненты. Сообщенным им сведения точны и, как правило, всегда подтверждаются другими свидетельствами.
Завалишин понял, что ему не удастся издать свои мемуары в России. Лев Толстой предлагал издать их за собственный счет – Завалишин отказался, потому что не был согласен ни на какие купюры.
В 1871 году Завалишин женился на 20-летней вдове, гувернантке Зинаиде Смирновой, которая была младше него на 47 лет. В этом браке родилось двое сыновей, умерших в детстве, и четыре дочери. Они добились, чтобы "Записки декабриста" наконец-то были опубликованы безо всякой цензуры. Двухтомник вышел из печати в 1904 году в Мюнхене, как сказано в предисловии, "в том виде, в каком он был найден в бумагах автора".
27 июня 1905 года старшая дочь Мария приехала в Ясную Поляну к Толстому и подарила ему экземпляр "Записок". Писатель читал их больше трех месяцев. Сначала он говорил, что записки Завалишина "так самохвальны, что противно читать. Могу только понемногу за раз". Но вскоре написал одной своей знакомой: "Рад бы дать вам книгу Завалишина. Это удивительная книга. Писать о декабристах, не зная этой книги, нельзя. Открывает глаза". В итоге Толстой пришел к выводу, что мемуары Завалишина являются "самыми важными из всех записок о декабристах".
Дмитрий Завалишин так и не увидел напечатанным труд всей своей жизни. Он умер в 5 февраля 1892 года, пережив всех остальных декабристов, и был похоронен в Даниловом монастыре.
Текст из архива Сибирь.Реалий