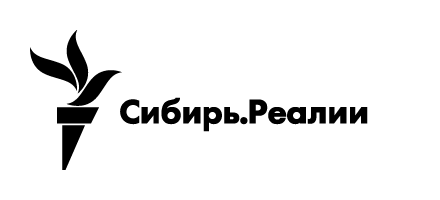120 лет назад в России началась революция, которая довольно быстро эволюционировала от мирных протестов к вооруженному восстанию. Толчком к этим событиям стала неудачная война с Японией, показавшая слабость российской власти. Общество испытывало к этой власти откровенную враждебность. Когда в Цусимском проливе адмирал Того потопил русский флот, студенты Петербургского университета отправляли японскому императору поздравительные телеграммы. Революционно настроенная молодежь тогда явно не имела никаких сантиментов по поводу "наших мальчиков", которые где-то далеко от дома гибнут в холодной воде.
Чтобы не пропускать главные материалы Сибирь.Реалии, подпишитесь на наш YouTube, инстаграм и телеграм
Может ли политик или обычный гражданин желать поражения своей стране в войне? Дискуссии об этом сегодня на фоне полномасштабного вторжения России в Украину ведутся постоянно. Об этом же в программе "Реалии" размышляют историк Сергей Чернышов и писатель Андрей Филимонов.
"Надо разобраться в том, что такое родина"
Андрей Филимонов: Сергей, будучи дилетантом в исторической науке, я выстраиваю следующую простую (может быть, слишком простую) логику: когда империя выигрывает войну – она укрепляется, а неудачные военные кампании приводят к кризису. Японская война – поражение России – начало революции. Вторая мировая война – победа СССР – укрепление власти Сталина. Война в Афганистане – бессмысленная и без шансов на успех – развал СССР. Вторая чеченская война – победа России – укрепление диктатуры Путина. Как профессионал что вы скажете об этой схеме?
Сергей Чернышов: Что касается так называемой революции 1905 года – то это не совсем революция, а скорее череда восстаний и погромов, которые не привели к смене общественного строя, не привели к смене власти.
Если же говорить в целом, то вашу стройную схему "поражение империи – революция" разрушает пример Германии. По состоянию на лето-осень 1918 года Германская империя на Восточном фронте захватила все территории нынешних Украины и Беларуси и дошла до Ростова-на-Дону. Фактически войну на Восточном фронте они безоговорочно выиграли. Вторая Германская империя развалилась не из-за поражений на фронте, а в результате внутренних причин.
А дальше Германию объявили единственным виновником Первой мировой войны, и к чему это привело буквально через 15 лет? К захвату власти национал-социалистами, Второй мировой и Холокосту. Поэтому, к несчастью, поражение в войне может и приводит к развалу империи, но далеко не всегда (а по мировым меркам – вообще почти никогда) не приводит к тому, что на месте ужасного имперского режима возникает нечто распрекрасное.
Да, самые ужасные режимы уничтожаются военным путем. Но и тем же военным путем устанавливаются самые ужасные режимы. Поэтому я бы сказал так: не войны вообще приводят к развалу империй, а войны, которые империя заканчивает не вовремя.
А.Ф: В советских учебниках истории нам рассказывали, какой молодец был Ленин, желавший поражения России в Первой мировой войне. Он писал в 1915 году в эмигрантской газете "Социал-демократ": "Революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству". И дальше разъяснял читателю: да, это будет государственная измена, но революционный класс это не должно смущать, потому что его цель – превращение империалистической "плохой" войны в гражданскую "хорошую" (опять же для "революционного класса"). Цену этой "хорошей войне" мы сейчас хорошо знаем – миллионы погибших и миллионы отправившихся в изгнание.
Но если из тех дней перенестись в нынешние: почему почти никто из уехавших после вторжения России в Украину оппозиционных российских политиков не сказал внятно, что Россия должна проиграть войну? Почему так трудно им произнести эти слова?
С.Ч: Ленин, как ни странно это прозвучит, был гораздо более свободным в высказываниях, чем нынешние эмигранты. Во-первых, он развешивал ярлыки "дураков", "идиотов", "сумасшедших" направо и налево, и с удовольствием влезал в любой эмигрантский, как бы сейчас сказали, "срач"...
А.Ф: Мне кажется, он бы сейчас из фейсбука не вылезал...
С.Ч: Несомненно. Это первое. А второе: я как раз вчера перечитал эту статью Ленина. Она написана через год после начала войны. Нынешняя война идет уже три года. И да, немногие из лидеров российской оппозиции смогли внятно произнести слова о необходимости поражения России в этой войне. Но при этом надо сказать, что Ленин все-таки специфически мыслил. И мог себе позволить написать статью о том, что революционный класс по обе стороны фронта – это один и тот же революционный класс, мол, мы одинаковые, а сражаются наши правительства. Поэтому нужно желать поражения не только нашему правительству, но вообще всем правительствам. Ленин был палачом, бездельником и сумасшедшим, но и при этом он был в каком-то смысле гораздо свободнее в своих высказываниях, чем нынешние эмигранты, как раз потому что не был стеснен никакими вопросами морали.
АФ: Продолжим наш исторический экскурс. В советских учебниках истории всегда обличали предателей "власовцев", которые вместе с Вермахтом воевали против Красной армии во Второй мировой войне. На примере "большевиков-пораженцев", занимавшихся через своих агитаторов на фронте разложением русской армии, мы видим определенную технологию государственного переворота и борьбу за власть во имя идеи – некоего еще не существующего "царства справедливости" для трудящихся. У РОА (русские антисоветские части и подразделения в составе вермахта во время Второй мировой войны – СР) была другая цель и другие методы: реставрация прежней "законной" власти с помощью иностранной интервенции.
Главный вопрос, который тут возникает – насколько совпадают понятия "родина" и "власть"? И насколько цель оправдывает средства?
С.Ч: Тут, конечно, надо разобраться в том, что вообще такое "родина". В тех же советских и нынешних российских учебниках много писали, например, про предательство советской власти в Западной Украине, Западной Беларуси и странах Балтии. Но нужно вспомнить, что эти территории были присоединены к СССР всего лишь за два года до той войны. Вот какая страна для тамошних жителей была "родиной"?
И, наоборот, множество людей, считавших себя русскими, оказались в какой-то момент вдруг в новообразованной Польше, сотни тысяч – в Румынии, в независимых странах Балтии и так далее. Вот для них что было "родиной"? Эти люди будто жили в комнате, в которой два накачанных мужика бьют друг друга. А их задачей было минимизировать для себя борьбу двух тиранов – Гитлера и Сталина.
Вообще, эти территории Восточной Европы один историк не случайно назвал "кровавыми землями". Там люди, никуда не уезжая, могли за 20 лет несколько раз сменить "родину".
Я полагаю, что и сталинский, и гитлеровский режимы принесли этим людям столько страданий, что они имели полное право ненавидеть оба этих режима. Можем ли мы их за это осуждать, за отсутствие патриотизма и желание, чтобы кто-то из двух диктаторов поскорее победил? Думаю, вряд ли.
А.Ф: В этом контексте нужно, наверное, вспомнить еще и многочисленную русскую эмиграцию, оказавшуюся в Европе после Гражданской войны…
С.Ч. Да, у них тоже была своя правда. Власть большевиков для них была исключительно враждебной, Советский Союз как государство – абсолютным злом. Союзники в лице Британии и Франции – не меньшим злом, поскольку именно Британию и Францию они считали виновными в недостаточной поддержке белых армий.
Поэтому неудивительно, что значительная часть русской эмиграции поддержала Гитлера, или, как выразились участники съезда Русского общевоинского союза в Праге 6 июля 1941 года, "военную борьбу Германии с иудо-большевизмом и начавшемуся освобождению русского народа от красного ига".
Мы точно не знаем, сколько русских эмигрантов воевали на стороне Вермахта, но, думаю, что счет идет на сотни тысяч. Например, только в Русском охранном корпусе в Югославии состояли около 17 тысяч человек. Для сравнения, в армиях стран антигитлеровской коалиции воевало то ли 3, то ли 6 тысяч русских эмигрантов. Причем это были уже дети той волны эмигрантов, которая потерпела поражение в Гражданской войне. Для них и большевизм, и Гражданская война, и Советский Союз были явлением довольно абстрактным.
Так вот, русские эмигранты, воевавшие на стороне Гитлера, ведь даже собственной военной присяги не нарушили. Обещали воевать с большевиками – пожалуйста, воевали. Можем ли мы их за это осуждать? Мне кажется, вряд ли.
А.Ф: Есть еще яркая страница в истории, когда после Гражданской войны члены Сибирского правительства в эмиграции рассчитывали на то, что Япония поможет отделить Сибирь от СССР. И никому из членов этого правительства тоже не пришло бы в голову рассматривать такой подход как предательство. Но ничего из этой затеи не вышло.
С.Ч: Проблема была в том, что Колчак, Деникин и прочие военачальники были, пожалуй, даже большими империалистами, чем Ленин. Они ведь воевали не за независимую Сибирь или Область войска Донского. Они воевали за единую Россию. Если бы они хотели воевать за независимую Сибирь, то не нужно было организовывать никаких наступательных операций, Сибирь и так была их. Нужно было подорвать мосты на Иртыше, на правом берегу (он как раз высокий), построить мощные оборонительные валы и налаживать свою жизнь вдали от красного террора. Ведь с 1918 года в течение нескольких лет реальная граница между Россией и Японией проходила по озеру Байкал. Об этом как-то не принято говорить, но даже лидер Временного сибирского правительства Петр Вологодский из поездки во Владивосток летом 1918 года пишет, что за станцией Слюдянка ему везде встречались японские солдаты, которые осваивались там как хозяева.
Петр Вологодский не знал дальнейшей истории России, но мы-то знаем. И зная сегодня о ГУЛАГЕ, об "островах смерти" на Оби, о раскулачивании в Сибири, должны ли мы признать, что, может, для проживающих на территории Восточной Сибири объединение с Японией было бы лучшей долей?
Make love not war, или Когда дезертиры побеждают
А.Ф: Еще один исторический поворот. 50 лет назад, в апреле 1975 года, пал Сайгон. Вьетнамская война закончилась победой коммунистического Севера. Эту войнц герой фильма "Апокалипсис сегодня" описывал как "ужас и моральный террор". Это была война, которая шла при трех американских президентах и расколола общество. Результат для США: десятки тысяч погибших, десятки тысяч ветеранов с разрушенной психикой, тысячи арестованных на митингах протеста, тысячи дезертиров, уклонистов. Американские призывники тогда бежали в Канаду, как россияне бежали в Грузию от "частичной мобилизации" в 2022 году.
Интересно, что в итоге американские дезертиры победили. Президент Картер помиловал всех, кто выбросил свои повестки и бежал из страны. Можно сказать, что именно дезертиры, а не патриоты оказались правы в исторической перспективе.
Но для доказательства своей правоты людям пришлось пройти через эмиграцию, а кому-то и через тюрьму, как Мохаммеду Али, который демонстративно выбрасывал повестки, отказывался являться на призывную комиссию и в конце концов "заслужил" двухлетний срок. Он был настоящим узником совести.
А.Ф.: Я хочу спросить, есть ли что-то полезное в этом опыте антивоенного сопротивления для нас? Или, как говорится, "это другое"? США – свободная страна, а Россия – диктатура, где так и не сложилось гражданское общество, и поэтому американский опыт россиянам не поможет?
С.Ч.: Парадокс в том, что мы узнаем о том, было ли то, что мы наблюдали в 2022 году, массовый исход мужчин из России, дезертирством или антивоенным сопротивлением, лишь много лет спустя, когда историки будущего развесят все нужные ярлыки. Если Россия в этой войне победит, точнее, если будет объявлена победа, то все уехавшие останутся в российской истории "власовцами" и, к несчастью, будут забыты. Подчеркну – в российской. В украинской, может, как-то иначе. Если Россия проиграет, как США во Вьетнаме, все уехавшие будут объявлены героями "антивоенного сопротивления". Там и свой Мохаммед Али найдется.
А.Ф: Вот вы говорите –"если будет объявлена победа". Это очень важный момент – именно объявлена. Важно ведь, что будет считаться победой. Ну, Киев не взяли, но чуть не четверть территории Украины оттяпали. Это же хоть завтра может быть объявлено победой?
С.Ч: Да, победой можно объявить все что угодно. С поражением сложнее. Если на твою столицу падают бомбы и 80 процентов жилья разносится в хлам, как это было в Германии, то все становится ясно.
А.Ф: Но когда все так относительно и результаты очевидны не сразу, то как же поступать, как сориентироваться обычному человеку в повседневной жизни?
С. Ч: Я думаю, что, как говорил уважаемый Карл Ясперс, есть категории моральной вины и моральной ответственности, когда единственным судьей является собственная совесть. Она в конечном счете является финальной инстанцией. Вне зависимости от режимов, государств, родины, есть самые базовые моральные установки. Убийства, кражи, призывы к ним – все это аморально. Если так, то неприятие должен вызывать не только сосед, избивающий свою жену, но и собственная страна, развязавшая агрессивную войну. Тогда получается, что нет ничего страшного в том, чтобы желать ей поражения. А уж в каких практических формах будет выражаться это неприятие – от обычного неучастия в войне и сопутствующих ей мероприятиях до войны на стороне Украины, что выбрал Ильдар Дадин, – тут уж каждый решает сам.