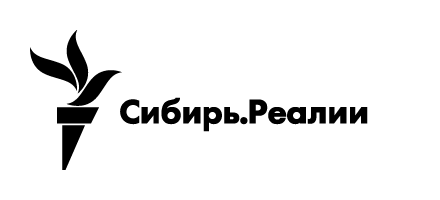40 лет назад, 15 февраля 1985 года, в своей обсерватории в Сибири умер гелиометеоролог Анатолий Дьяков. Одни называли его непризнанным гением, другие юродивым, а третьи – "богом погоды" и "ловцом ураганов". Он предсказывал погоду точнее, чем Гидрометеослужба, но до сих пор никто не может понять, как ему это удавалось.
Чтобы не пропускать главные материалы Сибирь.Реалии, подпишитесь на наш YouTube, инстаграм и телеграм.
"Иду и жду, что вот сейчас сзади пулю получу"
Каждое утро из строя заключенных Горношороского лагеря, располагавшегося на юге Кемеровской области, вызывали по 10 человек, которые потом бесследно исчезали. Многие были уверены, что их уводят на расстрел.
Очередное построение. "Дьяков, с вещами!" – услышал молодой украинский астроном Анатолий Дьяков. Уже год, как он ходил на рытье траншей возле реки Учулен в Горной Шории. Недалеко разрабатывалась рудная база для Кузнецкого металлургического завода. Чтобы наладить производство, специально создали Горшорлаг.
На 1 октября 1938 года здесь числилось 11700 человек. Контингент – колхозники, служащие, священники, много московской профессуры, уголовники. На конечную станцию Темиртау, где находилась комендатура лагеря, тысячами привозили заключенных. Смертность у них доходила до 25-27%.
"Работа тяжелая, мы голодали. Орудием труда были тачка и лопата, срывали землю с гор и заваливали лога. Для того, чтобы получить 1 кг хлеба, нужно было выполнить норму на 125%", – вспоминала бывшая заключенная Горшорлага Евфросинья Керсоновская.
"Простился со всеми. Иду и жду, что вот сейчас сзади пулю получу. Оглядываюсь – нет", – вспоминал спустя годы Анатолий Дьяков (из статьи Юрия Роста "Одинокий борец с земным тяготением" в "Литературной газете" 28 марта 1984).
Дьякова перевели на работу в сам поселок Темиртау.
– Вы будете главным метеорологом Горношорской железной дороги, – сообщил ему главный инженер строительства Егоров.
– Но я не метеоролог по образованию!
– Ничего. Астроном все-таки. С вашим личным делом я ознакомился. Те, кто работают сейчас, вообще никакого образования не имеют. Три станции ваши. Будете давать трехдневный прогноз.
Перевод заключенных в инженеро-технические работники был обычной практикой. Причем зачастую их ставили начальниками. Например, телефонистками в Горшорлаге руководил заключенный. Дьяков сменил на посту метеоролога простого учителя и получил в свое распоряжение маленькую научную базу – флюгер, ящики на 4-х штырях, парографы, самописцы, снегомерные рейки и т.п. Поехал знакомиться с сотрудниками, "в довольно уравновешенном состоянии духа, скорее, в радужном настроении, чем печальном, хотя порой мелькала мысль, что по своему характеру предложенная мне деятельность напоминает положение древнего Дамокла, усаженного под острием меча, подвешенного над головой на конском волоске по приказу тирана Сиракуз Диониса".
В Амзасе у него в подчинении был бывший католический патер Людвиг Бехлер, который в состоянии был лишь наблюдать и констатировать текущую погоду.
"Ссылка Дьякова в Сибирь спасла его от гибели"
Анатолий Дьяков родился 7 ноября 1911 года в селе Омельник Кировоградской области в Украине. Папа – директор школы, мама преподавала в ней французский. Сын с детства увлекался астрономией. В 1921-1923 годы, когда Украина переживала засуху и последовавший за ней массовой голод, Анатолий, еще будучи ребенком, задумался, можно ли было не допустить или хоты бы предупредить о засухе заранее, чтобы люди успели подготовиться. Ответы искал в учебниках.
"Я прочитал груду книг по метеорологии и астрономии – русских популяризаторов Вахтерова и Лункевича, выдающихся русских метеорологов А.И. Воейкова и А.В. Клоссовского, книги замечательного французского писателя-астронома Камилла Фламмариона "Атмосфера" и "Популярная астрономия", "Астрономические вечера" Клейна, "Мироздание" В. Майера, "Науку о Небе и Земле" Игнатьева", – вспоминал Дьяков. – Написанные живым доходчивым языком, приподнятым поэтическим стилем, прекрасно иллюстрированные, эти книги сильно действовали на молодые сердца и умы, и не я один увлекся тогда великими науками о Космосе под влиянием чтения столь талантливо написанной литературы".
В 14 лет Анатолий уже читал лекции по астрономии на машиностроительном заводе "Красная звезда". А в 21 закончил Одесский университет. В том же году в Париже на заседании Французского астрономического общества в Сорбонне Дьякова заочно избирают действительным членом этого общества. Свой членский билет под номером 12748 он получил по почте. А на следующий год ему предложили место в Ташкенте, в астрономической обсерватории, где только что была создана лаборатория по исследованию Солнца. Он сразу же согласился.
В Украине в то время был снова голодомор. Дьяков видел на улицах умирающих людей, в городе обсуждали случаи людоедства, рассказывали о том, как матери съедали умерших детей, и как одна женщина попросилась на ночлег и была съедена хозяевами. Однако в "хлебном" Ташкенте Анатолий проработал всего несколько месяцев. Директор обсерватории Теплов "обделывал свои делишки", сотрудники не получали денег. Дьяков отощал настолько, что врачи поставили ему диагноз – дистрофия. Он отправил свои документы в МГУ, на этот раз на математический факультет, его приняли сразу на четвертый курс. По дороге в Москву в поезде он стал описывать в дневнике увиденное в Украине, Ташкенте и встречающихся по пути городах.
"Однажды прочитал друзьям-студентам свой ташкентский дневник, где он описал весь кошмар строящегося в стране "палочного социализма" – так он его называл. Ну, и "настучали" на него. Пришли – он не запирался, показал дневник", – рассказывала жена астронома Нина Дьякова.
17 января 1935 года он оказался за решеткой в Бутырской тюрьме. В камере он сидел с Николаем Емельяновым, который укрывал Ленина и Зановьева в Разливе в 1917 году. Весной 1935 года Дьякова приговорили к трем годам по 58 статье и этапировали из Москвы в Сиблаг в город Мариинск. А оттуда уже распредели в Горшорлаг.
– Дьякову повезло дважды. Ссылка в Сибирь за его вольнодумство, безусловно, спасла его от гибели. Если бы арест произошел на два-три года позже, Анатолий Витальевич получил бы в лучшем случае десять лет без права переписки и, скорее всего, исчез навсегда. А так он, можно сказать, нашел свое призвание. За время работы помощником маркшейдера он не успел сильно подорвать свое здоровье. Питание, которое давали заключенным, нельзя было назвать нормальным. Оно состояло из хлеба и баланды. Но еда была. А физических сил он затрачивал меньше, чем, например, землекопы, – рассказывает кемеровский историк Татьяна Горбунова (имя изменено).
"Я вашу чушь распространять не буду, свои прогнозы стану давать!"
Первый прогноз он дал 12 июня 1936 года: "Малооблачная погода благоприятна для строительных работ". Прогноз оправдался. Он стал следить за сводками, которые давал Гидрометеослужба, наблюдал за солнцем и пятнами на нем. Дьяков считал, что прогнозирование по барометрическим полям, то есть по изменению давления, ошибочно. И он разработал собственный метод, основанный на наблюдении за динамикой изменений площади солнечных пятен, которые он проводил с помощью 75-миллиметрового школьного телескопа, взятого им во временное пользование у руководителя астрономического кружка. Дьяков был последователем французского астронома Камиля Фламмариона, который еще в 19 веке высказал мысль о том, что в формировании погоды на земном шаре активную роль играет Солнце.
Через три года, когда срок наказания закончился, Дьяков поехал по стране искать себе работу. Но никто не хотел прописывать к себе и брать на работу осужденного по 58-й статье. Дьяков вернулся обратно в Горную Шорию и продолжил наблюдать за погодой. 31 января 1941 года был издан приказ НКВД СССР "О ликвидации Горно-Шорского лагеря НКВД в связи с окончанием строительства железной дороги Мундыбаш – Таштагол". Метеостанцию передали Горному управлению Кузнецкого металлургического комбината и Новосибирскому управлению гидрометслужбы. Дьяков должен был давать прогнозы для всех хозорганизаций КМК и Томской железной дороги.
В 1944 году главный инженер рудника Темир-Тау Николай Резеда отчитывался: "За истекший год Метеобюро Горной Шории, возглавляемое Дьяковым А.В., проделало следующие работы: заблаговременно обеспечивало предприятия высококачественными информациями о предстоящей погоде на периоды от 1 до 10 суток и сезонными на 2-2.5 месяца. При этом, определения состояний предстоящей погоды оправдывались с ничтожными отклонениями, что способствовало руднику, железнодорожному транспорту и пр. предприятиям заблаговременно принимать эффективные меры для обеспечения производственных планов в условиях непостоянного режима погоды Горной Шории".
8 мая 1945 года Дьяков выступил перед депутатами трудящихся Кемеровской области с отчётным докладом. После которого Исполком постановил
"произвести постройку метеостанции обсерваторного типа. Под постройку здания и организации метеоработ закрепить участок на вершине горы Улу-Даг площадью 15 га под климатический заповедник и 8 га под хозучасток метеостанции".
На горе построили дом для Дьякова и обсерваторию. В 1947 году геологоразведку ликвидировали. Дьякова перевели в ведомство гидрометслужбы.
"Эта служба давала свои прогнозы, и надо было их распространять по предприятиям и организациям. Толя им решительно сказал: "Я вашу чушь распространять не буду, свои прогнозы стану давать!" И за это его уволили. А вскоре и метеостанцию на горе Улу-Даг кто-то поджег", – рассказывала Нина Дьякова.
Анатолий все равно продолжал наблюдать за магнитными колебаниями, Солнцем и делать свои прогнозы. Параллельно написал работу "Предвидение погоды на длительные сроки на энергоклиматической основе". Но четыре из пяти рецензий ученых Академии наук СССР были отрицательными. Книгу к печати не пропустили. . В Темиртау до сих пор помнят этого чудака.
– Он вон там на горе жил. Вы туда сейчас не проберетесь даже на снегоходах. Интересный мужик был. Каких только про него слухов не было. Рассказывали, что он практически всегда ходил босиком. Если только в управлении рудника идет, то ботинки с собой берет и прямо перед входом в помещении обувался. Когда с первой женой жил, москвичкой, они корову летом накрывали простынкой, чтобы она солнечный удара не получила. Дед рассказывал, что вначале не все верили в его прогнозы погоды. Относились как к юродивому. Придумали ему прозвище – "бог погоды". Мальчишки, если его видели, всегда кричали – "бог погоды". Он обижался. А со временем уже его так стали с уважением называть, признали его заслуги. Но он все равно злился. Как-то к нему приехали какие-то чиновники, подошли к нему на улице, не зная, что это он, и спросили, где тут "бог погоды" живет, так он с ними и разговаривать не стал, – рассказывает жительница поселка Темиртау Екатерина Шумакова (имя изменено).
После увольнения из гидрометеослужбы Дьков подрабатывал в школе учителем – то географии, то математики. Иногда фотографировал местных жителей за рубль. Супруга шила на заказ вещи. Но за погодой и пятнами на Солнце следить не переставал. В случае аномалий или стихийных бедствий Анатолий отправлял свои прогнозы погоды в различные организации и ведомства.
В конце 1957 года метеоролога-новатора поддержал директор КМК Борис Жеребин. Он обратился с предложением в Министерство черной металлургии, и с 1 января 1958 года была учреждена научно-исследовательская гелиометеостанция Горной Шории. Геннадий Падерин в своем очерке "Ловец ураганов" объясняет заинтересованность Жеребина чрезвычайными происшествиями на комбинате.
Дьяков периодически присылал предупреждения, но эта корреспонденция копилась в шкафу заводоуправления непрочитанной: "Так продолжалось до одного случая, который обошелся комбинату в полмиллиона рублей. Зима в том году выдалась мягкая, и руду из Горной Шории возили, даже не пересыпая известью: известь бывает нужна, чтобы руда не смерзалась на платформах, так как грузят ее мокрую (из-за грунтовых вод). И вот в середине этой мягкой зимы Дьяков вдруг обнаруживает признаки сильного и внезапного похолодания. В тот же день посылает в Новокузнецк тревожное предупреждение, а там… Там его постигает судьба всех предыдущих сводок. Несколько составов руды смерзлось в камень, взять ее не могли ничем, пришлось взрывать прямо на платформах. А потом железная дорога предъявила иск за искореженный подвижной состав. 500 тысяч рублей. Не-ет, теперь сводки отшельника из Темиртау больше не складывались непросмотренными, теперь к его работе начали относиться с вниманием, уважением и даже некоторым почтением, теперь он стал вхож к самому директору комбината, а директор, восхищаясь и гордясь удивительной прозорливостью "бога погоды", рассказал о нем областным руководителям", так рассказывает об этом случае Геннадий Падерин в своем очерке "Ловец ураганов".
Сам Дьяков оценивал успешность своих прогнозов в 80%, в то время как показатели Гидрометцентра не превышали 60%. В 1960-м году рудник выдал ему новый дом, к старому дому на горе Анатолий пристроил башню. Через правительство добился, чтобы во Франции купили профессиональный телескоп и специальный купол на крышу обсерватории. На стене Дьяков сделал табличку "Гелиометеорологическая обсерватория Кузбасса имени Камилла Фламмариона".
– В 1960-е Дьяков стал отправлять свои предсказания и в другие страны. Телеграммы отсылал за свой счет в Англию, Францию, Индию, США. Сам он говорил, что предвидел как минимум 50 значительных атмосферных аномалий. В 1966 году отправил срочное сообщение на Кубу: "Господа, имею честь предупредить вас о появлении сильного урагана в Карибском море в конце третьей декады сентября. Начальник гелиометеорологической станции Горной Шории Анатолий Дьяков". После этого сообщения кубинские метеорологи решили перестраховаться и повнимательнее посмотреть горизонт. Увидели в небе сгущение и предупредили местных жителей, и спрятали флот в гавани. Вскоре на Кубу обрушился ураган "Инес", который двигался со скоростью 240 километров в час. В литературе я встречала, что позже Фидель Кастро лично поблагодарил Дьякова за спасение кораблей. Но доказательств этому обнародовано не было. Потом он предсказывал еще три конкретных урагана – "Эмма", "Шерли" и "Бесс". Прогноз делал за несколько недель до ЧП. До сих пор метеорологи спорят, как удавалось Дьякову это предвидеть или рассчитать. К сожалению, по тем записям, которые сохранились, невозможно произвести расчеты и сделать прогноз. Даже его сын Камилл, который одно время работал с ним, не смог. Поэтому некоторые думают, что он шарлатан, которому иногда везло. Другие говорили, что он просто не от мира сего. На мой взгляд, он просто был неординарной личностью, который понимал и чувствовал больше, чем окружающие, – рассказывает историк Татьяна Горбунова.
Ко многим телеграммам-предупреждениям Дьякова поначалу относились несерьезно и зачастую игнорировали. Хотя были и те, кто отвечал. 12 октября 1978 года Дьяков послал телеграмму парижским синоптикам с предупреждением о грядущей чрезвычайной ситуации.
"Дорогой коллега (обращается он к директору физического института Жан-Клоду Пекеру), считаю долгом отправить предупреждение по поводу суровости зимы 78-79 гг. По моим предположениям, следует ожидать весьма интенсивные волны холода – в третьей декаде декабря, а также январе – около минус 20 градусов". В декабре в Темиртау пришла ответная телеграмма А. В. Дьякову: "Спасибо за депешу, а в особенности за срочность. Мы уже одеваемся в теплые манто".
Позднее эту зиму назовут самой холодной зимой в Европе в 20 веке. 19 декабря 1978 г. из-за обледенения проводов Франция переживает самое крупное на сегодняшний день отключение электроэнергии. Три четверти страны остались без электричества на несколько часов, а на улицах появились сугробы. Многие заводы и фабрики приостановили работу. Поезда замерзали на станциях. Ущерб от морозов оценивался в четыре миллиарда франков. В Германии температура понизилась до -27°, а люди стали замерзать в собственных домах. Несколько поездов сошло с рельсов, а корабли застряли в портах. Около 150 городов и посёлков были отрезаны от внешнего мира из-за снега и холода, погибло как минимум 22 человека. Пострадавших и беременных женщин отвозили в больницы на вертолётах: за несколько морозных дней прямо в воздухе родилось почти 70 детей.
Спустя пару недель в Темиртау приходит еще одна телеграмма от французского астрофизика и профессора Сорбоны Пекера: "Спасибо за Ваше великолепное предвидение. Можете ли Вы, дорогой коллега и досточтимый друг, прислать заметку о Вашей методике предвидения? Надо ли при этом учитывать активность Солнца и каким образом? "
Дьяков не хотел раскрывать все карты. Он с удовольствием рассказывал теорию, но вот делиться тем, по каким формулам составлял прогноз – не спешил. Как-то в Горную Шорию приехал снимать сюжет про "бога погоды" оператор Новосибирской кинохроники Анатолий Хомяков. Они сидели на веранде. На столе лежали синоптические карты. Хомяков, который до кинохроники был в армии военным синоптиком, подготавливая фон для сьемок, автоматически разложил карты в порядке прохождения атмосферного фронта. Дьяков, увидев это, взорвался: "Вон! Ты никакой не оператор, ты шпион Гидромета!". И, несмотря на объяснения, так и не разрешил ничего снимать.
"Так бывает в науке, не сочли столбовой дорогой развития"
– Дед рассказывал, что пока Дьяков работал, у каждого председателя колхоза в кабинете на стене висели два листочка. Один – от "бога погоды", второй от Гидрометцентра. Ориентировались при посевной и уборочной на первый. Потому что официальный всегда подводил. А я, когда маленькая была, с друзьями бегала, спрашивала, когда будет метеоритный дождь или звездопад, – рассказывает Екатерина Шумакова.
В 1972-м он предсказал засуху в СССР. Тогда в некоторых районах центра России не выпало практически ни капли дождя за все лето. В Поволжье, Казахстане и на Урале зной достигал почти 40 °C. В Москве жара стояла около месяца и сгорело 6000 гектаров леса. Но некоторые колхозы успели подготовиться к аномалии благодаря прогнозам Дьякова.
Журналисты отыскали бога погоды. Сразу в нескольких союзных СМИ вышли материалы о нем. В том же году за точные прогнозы погоды Дьяков был награждён Орденом Трудового Красного знамени "за успехи, достигнутые в увеличении производства зерна".
Теперь прогнозы стали просить не только колхозники. Телеграммы с просьбами шли в небольшой горный поселок со всего света. Срочная телеграмма от 23 августа 1978 года. Капитан научно-исследовательского судна "Сергей Королев" Нижельский – Дьякову: "Прошу сообщить погодные условия Северной Атлантике районе полуострова Сэйбл период сентябрь – октябрь месяцы".
28 августа, срочная телеграмма. Дьяков – Нижельскому: "Глубокоуважаемый капитан, сообщаю свои предположения. Штормовая погода с усилением западных и северо-западных ветров и волнением свыше 5 метров следующие периоды: 5-7 сентября, 24-28 сентября, 10-17 октября, 27-28 октября. Особенно сильных штормов следует ожидать в третьей декаде сентября и во второй октября. Усиление ветра до 35 м/сек., волнение свыше 8 баллов. Температура воздуха в сентябре плюс 12-20, в октябре плюс 8-15. Следует опасаться айсбергов, движущихся в сторону Ньюфаундленда. Число их увеличится в третьей декаде сентября. С уважением и приветом Дьяков".
"Глубокоуважаемый Анатолий Витальевич! Ваши предположения подтвердились полностью. Даты штормовой погоды, указанные Вами, совпали абсолютно точно. От имени экипажа выражаю искреннее восхищение Вашей работой. Нижельский" (из статьи Юрия Роста "Одинокий борец с земным тяготением").
После прогноза засухи 1972 года его стали приглашать выступать с докладами. На одной из них, Всесоюзной конференции по солнечно-атмосферным связям в теории климата и прогнозам погоды, он сообщил, что довел успешность декадных прогнозов для Западной Сибири до 90-95%, а месячных и сезонных – до 80-85%, что с помощью выявленных им закономерностей атмосферной динамики ему удалось предвидеть и дать предупреждение не менее чем за 15 суток о более 50 значительных атмосферных аномалиях, возникших над территорией Евразии и Атлантики – штормов, тайфунов, ураганов, ливневых дождей.
Однако официальные советские метеорологи продолжали относиться к методике Дьякова скептически. О результатах проверки прогнозов Дьякова специалистами Госкомгидромета СССР в 1973 году вышла статья в журнале "Метеорология и гидрология": "Проверка прогнозов Дьякова была проведена объективно и добросовестно специальной комиссией…. Результат проверки в общем оказался плачевным по всем видам его прогнозов. При всей расплывчатости его формулировок удачность прогнозов оказалась в пределах случайных совпадений (около 50 %).
"В печати уже неоднократно сообщалось, что прогнозы, составляемые нами на единственной в стране научно-исследовательской гелиометеорологической станции Горной Шории, как правило, более точны, чем аналогичные прогнозы Гидрометцентра. Не зная, что противопоставить такому факту, противники наших методов утверждают, что нам-де просто "удивительно везет". Надо ли говорить, насколько нелепо подобное утверждение. Предсказание погоды – не игра в рулетку. Любой метеоролог-практик хорошо знает, что тут невозможно добиться успеха, не опираясь в своей работе на достоверно установленные природные закономерности, не опираясь на факты ...Наши научные противники требуют фактов. Фактов, которые подтверждали бы, что влияние солнечной активности на погоду действительно существует. Что ж, требование вполне законное. Однако, когда приводишь эти факты, от них попросту отмахиваются. По-видимому, нужны не только факты – необходимо еще желание их увидеть. Короче говоря, необходим хотя бы минимум объективности", – рассказывал Дьяков.
Приезжавшим в Горную Шорию журналистам гелиометеоролог показывал пачки писем и телеграмм, подтверждающих его сбывшиеся прогнозы от "от имени всех аграриев страны", директоров крупных заводов и не только.
"Я не болен зудом предсказательства, я не выскочка, не самозванец. Меня просят – я отвечаю …. Да что ураганы! – отмахивался хозяин. – Ураганы не так и сложно предсказать, куда сложнее определить, где прольется обыкновенный дождь, а где, наоборот, его не будет. Где и когда. Понимаете? Где и когда!" – записал Геннадий Падерин слова Дьякова при посещении его в 1968 году.
Андрей Финкельштейн, бывший директора Института прикладной астрономии РАН в беседе с журналистами спустя годы говорил, что "так бывает в науке, не сочли столбовой дорогой развития, людей, кто понимал в гелиометеорологии, не стало, а другие стали говорить как о знахарстве". Академик Владимир Логинов считал, что главную роль при прогнозировании играла феноменальная память Дьякова: он помнил последовательность атмосферных процессов в разные периоды и просто применял аналоги.
"Сам Дьяков прекрасно понимал, что живет и работает в России, где наука сверхмонополизирована, а вернее сказать – очиновничена. А потому, когда его спрашивали во время научного доклада или пресс-конференции, дескать, а где ваше математическое обоснование или доказательство сих рассуждений либо данного постулата, то Анатолий Витальевич иронично посмеивался и, похлопав себя по лбу, преспокойно отвечал: мол, не беспокойтесь, мадам и мсье, все тут, в моей полной солнцем голове! Ну, а сообразно нынешним временам, Дьяков просто-напросто свое открытие, как волшебный ключик, держал втуне, при себе", – писал советский писатель и журналист Геннадий Смолин.
Анатолий Дьяков умер в своей обсерватории 15 февраля ровно в пятнадцать часов пятнадцать минут. После его смерти единственную в мире Гелиометеостанцию закрыли. Руководство рудника продало телескоп. А здание оставили.
– В прошлом году мы забирались на гору, там остался только ржавый купол, – говорит Екатерина Шумакова. – Года три-четыре назад, перед войной, чиновники сказали, что будут восстанавливать метеостанцию. Говорили, что она единственная в мире. Я в этом плохо понимаю. Хотели и Дом-музей делать. Много, кто сюда едет посмотреть на эту станцию, особенно летом. Но потом началась Украина. И все. Те, кто говорил о восстановлении метеостанции, сами же и разобрали там все по кирпичам. Хотя о таком человеке память надо бы сохранить.