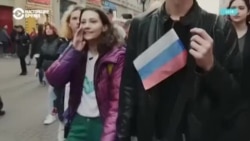Одиннадцатого мая суд в Москве вынес приговор трем активистам "Бессрочного протеста": Ольге Мисик, Ивану Воробьевскому и Игорю Башаримову. Обвинение требовало для них ограничения свободы по делу о вандализме – за то, что молодые люди в августе 2020 года якобы облили краской "будку здания федерального значения". Речь идет о будке проходной здания Генпрокуратуры на Большой Дмитровке в Москве, возле которой активисты протестовали против дела "Нового величия".
Ольге Мисик, согласно приговору, в течение двух лет и двух месяцев будет ограничена свобода: девушке запрещено выходить из дома с 10 часов вечера до 6 утра. Воробьевскому и Башаримову запретили выходить из дома с 23:00 до 5:00 в течение одного года и девяти месяцев, сообщил адвокат Дмитрий Захватов.
Мисик ранее получила широкую известность как "девушка, читавшая Конституцию": после той акции 2019 года ее, 17-летнюю абитуриентку, поставили на учет в полицию.
По мнению юристов, статья, по которой преследуют активистов, предполагает максимум административное наказание в виде штрафа. Однако Мисик, Воробьевский и Башаримов получили не просто "домашний арест" с браслетом на ноге: любое следующее административное нарушение может привести активистов в колонию.
Накануне приговора телеканал "Настоящее Время" поговорил с самой Ольгой Мисик, а также с ее матерью Гузель Мисик: именно ей по решению суда приходится уже почти год быть "связной" между дочерью и внешним миром. Мать активистки с улыбкой рассказала, что ее дочери "невозможно что-либо запретить". Сама же Ольга заметила, что "было бы гораздо лучше, приятней", если бы для нее просили три года тюрьмы, чем ограничение свободы: тогда у нее было бы больше шансов отделаться условным сроком.
"Раз она выбрала такой путь, значит, надо ее поддерживать"
– Гузель, я хотел вас спросить: когда Оля занялась политическим активизмом, вы вообще знали, что она этим занялась?
– Нет. Ну как: она поехала на митинг, сказала, что поедет. Я думаю: "Ну митинг и митинг – ничего страшного".
– То есть вы не пытались ее как-то остановить?
– Ну когда ее в первый раз забрала полиция (против дела Голунова тогда митинговали), я, конечно, ее пыталась уговорить, что не надо ходить, потому что знала, к чему это может привести.
– Но не запретили? То есть вы в целом считаете, что такие протесты – это как бы право человека?
– Оля – довольно целенаправленный человек, и что-либо запретить ей невозможно. Ей можно только объяснить что-то, и если она примет другое мнение, тогда да.
– Когда вы поняли, что, в общем, в данном случае ее не свернуть с пути, вы ее поддержали?
– По мере возможностей да.
– Что вы сказали?
– "Будь осторожна".
– Что вы чувствовали, когда были задержания? Обыск был здесь же, в этой квартире, да?
– Да, они приехали в квартиру. Оля здесь была, они приехали сюда.
– Как они себя вели, кстати?
– Не сказать, чтобы уж совсем агрессивно. Но да, не давали телефоны брать, выходить в другую комнату, когда мы в квартире кричали: "Где Оля?"
– Вы были напуганы?
– Не очень: я, в принципе, ожидала, что такое может случиться.
– Кажется, что Оля стала в некоем смысле звездой, лицом этого протеста. Вы как это воспринимаете? Как к этому относитесь?
– Не очень хорошо. Я не люблю публичности. Но чтобы остановить Олю, надо привязать ее к батарее (смеется). Раз она выбрала такой путь, значит, надо ее поддерживать.
"Я в первый раз пришла на митинг в 16 лет"
– Ольга, я хотел спросить, сколько вам сейчас лет.
– Мне 19 уже. Двадцати еще нет.
– Когда вы вообще решили заниматься активизмом?
– Я в первый раз пришла на митинг в 16. Я еще тогда не была активисткой и даже к Навальному относилась со скепсисом. Но я увидела, что происходило на этом митинге, и поняла, что это как-то не очень адекватно. И вот именно тогда я и стала приходить на все митинги. Но, думаю, полноценно активизмом я начала заниматься только после голуновского митинга: меня задержали в тот день. После этого я начала активно всех агитировать, раздавать всякие листовки, плакаты клеить и всякое такое.
– Почему вы стали это делать?
– Потому что когда меня задержали, это, очевидно, было сделано с той целью, чтобы я прекратила заниматься всем этим. И, разумеется, что самое очевидное, чем я могла ответить на все это, – заниматься этим еще больше. Вот так.
– В 2019 году вы читали Конституцию, это были летние и осенние протесты. А что вы после этого делали?
– После этого чтения Конституции и всей этой известности мне пришлось очень много общаться с журналистами и политиками. И я начала как бы переходить на новый уровень активизма. Начала посещать всякие правозащитные лекции и семинары: у меня там висит диплом с лекции Сергея Шарова-Делоне, это были последние лекции, которые он провел.
Я была на множестве политических семинаров и всяких мероприятий, даже ездила в Данию и в Италию на подобные штуки.
– Вообще после того, как вы ходили и читали Конституцию, насколько сильно ваша жизнь изменилась? Можно сказать, что пришла известность?
– Я думаю, что это был абсолютно такой переломный день во всей моей жизни. И это было так странно, потому что вроде бы не произошло чего-то масштабного, потому что я довольно часто проводила подобные акции. Но все так странно отреагировали на все, это было для меня так странно и довольно шокирующе. Разумеется, с тех пор все изменилось.
– "Дело будки федерального значения": что вы можете сказать про эту историю? Она как-то вообще с вами связана? Или это абсолютная "липа"?
– Когда я проводила очередную акцию против приговора по делу ребят из "Нового величия", я приклеила плакат на будку Генпрокуратуры в Москве. Это такая будка перед входом на территорию. Разумеется, приклеивание плаката – это не вандализм, и довольно глупо это квалифицировать как вандализм. Я думаю, силовикам было бы проще квалифицировать это как статью 213, как хулиганство. Но тогда пришлось бы опротестовать в суде поддельные документы.
– Это некая справка об ущербе, которая есть в деле? (Генпрокуратура сообщала, что "в связи с тем, что жидкость красного цвета невозможно отмыть, было принято решение загрунтовать и закрасить испорченную часть фасада" проходной: это обошлось ведомству в 3464 рубля 50 копеек – НВ.)
– Да. Вандализм под собой имеет материальный состав, а преступление обязательно должно иметь ущерб. А так как приклеивание плаката не принесло зданию ни повреждений, ни ущерба в целом, прокуратура придумала этот ущерб будке и предоставила фальшивые сметы, которые его объясняют. А поняли мы все это потому, что смета составлена другим числом, на три месяца позже, чем якобы прошел ремонт. И дает сведения, которые появились тоже на три месяца позже.
– А приклеивали вы плакат на скотч, клей?
– На двусторонний скотч.
– То есть он просто отлепляется, и все?
– Да, разумеется.
– У вас этот плакат не сохранился?
– Нет, он в вещдоках по материалам дела.
– И вам реальное наказание за это может грозить?
– Да. Прокуратура запросила 2 года и 9 месяцев ограничения свободы. Это как домашний арест, только в качестве не меры пресечения, а в качестве полноценного наказания.
– Но это не тюрьма?
– Да, это не тюрьма.
– Как вы себя чувствуете перед приговором?
– На самом деле плохо. Потому что вся проблема в том, что дело глупое и максимально абсурдное, и все это понимают. И если бы прокуратура просила тюрьму, то с вероятностью 95%, я думаю, мне дали бы не реальный срок, а условный. Но для меня запрашивают ограничение, а это значит, что ограничение будет реальным, потому что их по-другому и не дают. В общем, было бы гораздо лучше, приятней, если бы мне просили три года тюрьмы, а не это ограничение.
– Вообще это ограничение как работает? Если завтра вас признают виновной, вам скажут 2 года и 9 месяцев находиться в этом доме?
– Да, мне повесят браслет, и я не буду выходить из дома и посещать университет, с друзьями видеться. В общем, такая пресная и скучная жизнь.
– И, скорее всего, это еще и запрет интернета?
– По-разному. Все ограничения зависят от решения судьи.
– Вся эта ваша история с "делом будки федерального значения", знаете, это выглядит будто бы "Девочка, ты тут читала Конституцию, ты нас этим очень выбесила, сиди дома". Это так?
– Ну, в принципе, я думаю, что это все так и работает. Я так понимаю, что все происходящее – это не из-за плаката на будке, а именно месть за всю ту деятельность, которой я занималась последние два года. И все эти ограничения, которые у меня есть за последние девять месяцев, – это все для того, чтобы я не могла писать что-то и посещать митинги и прочие мероприятия, посещать пары у себя на факультете. Все для того, чтобы вырвать меня из всей привычной жизни.
– Сейчас в отношении вас тоже действует запрет определенных действий?
– Я не могу пользоваться связью и телефоном и прочими такими штуками, почтой и телеграфом, я не могу общаться с друзьями, не могу выходить из дома вечером и ночью, я не могу приходить на развлекательные массовые публичные штуки, и вроде бы это все. А еще я не могу приближаться к зданиям госвласти, но этого я, в принципе, и не планировала.
"Против власти нельзя выступать в нашей стране, это наказание за мысли"
– Гузель, вы сейчас главный коммуникатор у Оли?
– Ну, получается, да, потому что ей запрещено пользоваться интернетом, телефонами.
– Еще хотел у вас спросить про позицию папы. Я так понимаю, он не поддерживает Олины действия.
– Нет, он против. Категорически против.
– Какие у вас ожидания перед судом?
– Ну что, что будет, то будет. Мы уже ничего не можем изменить.
– Вы как-то спланировали вашу жизнь с учетом возможного обвинительного решения для Оли, ограничения ее свободы?
– Нет. Но они пока и не говорили, что именно в это будет входить. Я так думаю, что будет запрет выезда из района и нахождение только в пределах квартиры, дома.
– То есть вы должны будете быть коммуникатором у Оли в течение долгого времени, если это все произойдет так, как обвинение просит?
– Да.
– Вы прикинули, как дальше в таких условиях выстраивать быт?
– Нет пока. Вот как завтра пройдет приговор, тогда будем решать уже, думать. У нас будет много времени.
– Вообще вы понимаете, почему это дело взялось?
– Потому что против власти нельзя выступать в нашей стране.
– Это месть?
– Наверное. Наказание за свои мысли.
– Но вы даже не унываете в целом?
– А что делать?