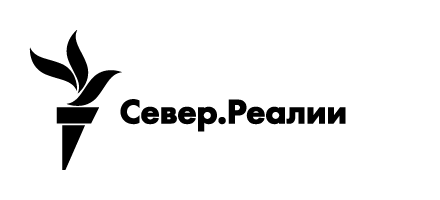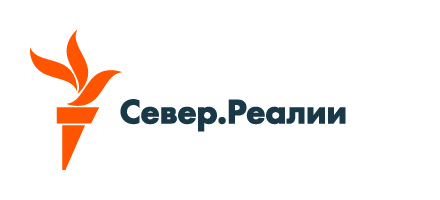Сто лет назад, зимой 1924-1925 года в Ленинграде начала работать первая в городе (и вторая в СССР) автоматическая телефонная станция. Небольшая, всего на 200 номеров. Зато – автоматическая! Без всяких телефонных барышень, которых надо было поить, кормить и платить им зарплату. Вместо них теперь работали реле и шаговые механизмы, которые, кряхтя и высекая искры, соединяли абонентов. Иногда, конечно, с ошибками. Но разве люди не ошибаются?
Кто бы мог подумать, что эти ошибки спустя полстолетия приведут к возникновению первого в истории голосового чата, который назовут "Ленинградским телефонным эфиром"... Но, впрочем, об этом – чуть дальше. Ведь чтобы объяснить, почему и как это случилось, надо сказать еще пару слов об истории телефонов в Ленинграде и в СССР.
Инфернальный след АТС-47
Итак, автоматические станции стали устанавливать одну за другой, поскольку плотность телефонных абонентов в Ленинграде тогда была самой высокой в Советской России. Конечно, ее тогда еще трудно было сравнить с дореволюционной. С тех пор как Ленин распорядился в 1917 году "взять" телефон (вместе с почтой и телеграфом), число абонентов резко сократилось, примерно с 60000 до 10000, то есть сразу в 6 раз. Исполняя в октябре 1917 года приказ "взять", солдатня и матросы резали провода, стреляли по изоляторам на опорах телефонной связи, да и барышни с телефонных станций (которых тоже кое-кто пытался "взять") разбежались, кто куда. Поэтому в начале 20-х годов был даже издан декрет, по которому все частные телефонные номера и аппараты изымались в "общественное" пользование – для представителей власти, комиссаров, и так далее. Взамен для оставшихся без связи ленинградцев в конце 20-х годов начали устанавливать кабины общественных телефонов-автоматов. Все оборудование и для телефонных станций, и для кабин таксофонов закупалось большевиками за границей – в основном у шведской фирмы "Эриксон". Валюты не хватало, поэтому "телефонизация" шла медленно. А на то, чтобы освоить массовое производство собственных АТС и телефонов, у советской промышленности ушло больше четверти века.
Домашний телефон долго был роскошью, которая стала постепенно возвращаться в дома ленинградцев только после войны. К тому моменту в городе уже действовало несколько телефонных станций, на сотни тысяч номеров, и оборудование на них наконец стали менять на отечественное. Оно вообще– то было неплохим для начала 50х годов, и на нем, чтобы лучше работало, позднее даже начали ставить магический советский оберег "Знак качества" (стилизованный человечек с раскинутыми руками, хотя почему– то без головы). Но потом, как известно, в СССР начался "Застой" – эпоха, негласным лозунгом которой было "лучшее – враг хорошего". И оборудование телефонных станций, да и вообще все телефонное оборудование обновлять практически перестали.
В начале 80-х годов минувшего века оно было точно таким же, как за 20 или 30 лет до того — что в Ленинграде, что в Москве, что в других городах. Уже изношенное, архаичное, постоянно "зависающее" – и на АТС, и в недрах телефонов-автоматов. В 1979 году мне, московскому подростку, довелось познакомиться со всей этой "телефонной кухней" лицом к лицу, когда в 9 классе у нас началось трудовое обучение на Учебно-Производственном Комбинате по специальности "телефония". И я сразу понял: эти железки работать в принципе не могут. Но они – работали.
Может быть, тут не обходилось без нечистой силы, тем более что нашим преподавателем был похожий на лысого черта пожилой мужчина в потертой кожаной куртке, с неприятным скрипучим голосом. К тому же его фамилия была Блешмут. Он ненавидел нас, школьников, той идеально прямой и откровенной ненавистью, которая мгновенно рождает ответное чувство — как "кулачок" номеронабирателя в телефоне приводит в действие шаговый коммутатор. Возможно, именно потому мне запомнилась эта адская телефонная техника. Как сейчас перед глазами – искатель декадно-шаговой АТС (АТС-47, да, его начали производить в том же году что и автомат Калашникова АК-47), ощетинившийся металлическими пластинами. Именно этот искатель и создавал "Ленинградский телефонный эфир", но я тогда еще не знал о его существовании. "Шаговый искатель", – шипел Блешмут – "имеет десять нормальных положений контактов, и одно на сигнал "занято", из которого возвращается в исходную позицию. Повторите!". И мы повторяли, не подозревая, что в этих незамысловатых словах скрывается удивительная тайна. Потому что искатель (на котором тоже был отштампован безголовый человечек с раскинутыми руками) возвращается в исходную позицию не всегда. Иногда он зависает.
Тридцать тысяч голосов
Говорят, это обнаружили случайно, в конце 60-х или в начале 70-х годов, годов, когда в Ленинграде два человека одновременно (возможно, шутки ради) позвонили на один номер — и сквозь слабые короткие гудки неожиданно услышали друг друга. Это был, что называется, "несуществующий" номер, то есть он никому не принадлежал (судя по справочнику, звонить было некому). Возможно поэтому, не найдя линии абонента, шаговый искатель в последней секции АТС "залип", и в результате все, кто звонил на этот номер, соединялись между собой. Получался своего рода "телефонный чат", в котором одновременно могло общаться несколько десятков человек.
Такие номера из-за "зависших" искателей АТС возникали время от времени (а затем рано или поздно исчезали), и об их существовании знали немногие. На одних номерах приходилось говорить, перекрикивая сигнал "занято", на других – если повезет – разговору ничто не мешало. Есть версия, будто несколько лет этой связью пользовались ленинградские фарцовщики, сообщавшие друг другу и клиентам важную информацию: "Чувачок, это Эдик, на галёре пыжиковые шапки дают. Десять штук я тебе скину. Договорились, всё, стрелку забили". Удобно и безопасно!
Но в какой-то момент информация о необычном способе общения, что называется, "пошла в народ". В разговоры фарцовщиков стали вклиниваться разные случайные люди, какие-то школьники, музыканты, студенты, и вскоре вести бизнес в этом месте стало невозможно. Там бушевала, перекрикивая друг друга, какая– то громкая и непонятная толпа народа.
В начале 80-х годов, когда в Ленинграде (не даром же культурная столица!) как грибы появлялись рок-группы и подпольные клубы, молодежные субкультуры и другие, как тогда говорили "неформальные объединения", Эфир оказался очень к месту. Он стал идеальной площадкой для общения и знакомств. Телефоны, на которые можно позвонить, передавались от одной молодежной компании к другой, писались на стенах подъездов, надиктовывались "по секрету" на школьных переменах. Говорят, к середине 80-х годов Эфир объединял не менее 30 тысяч ленинградцев, и, конечно, все они на одном номере "поместиться" не могли. Впрочем, этого и не требовалось. К тому моменту, благодаря самоотверженным поискам энтузиастов, число "эфирных номеров" перевалило за сотню.
Подвиги Славы-вычислителя
Как же их искали? О, это был долгий и кропотливый труд. В истории "Ленинградского телефонного эфира", которую его участники бережно сохраняют на интернет-форумах ucoz.ru, упоминается о двух знаменитых искателях, или, если угодно, отцах-основоположниках. Первый, известный под эфирным псевдонимом "Лектор", неделями и месяцами "прозванивал" телефоны, которые не были обозначены в справочниках. Этот "экстенсивный" подход приносил плоды, но довольно небольшие, два-три новых телефона в месяц. Примерно столько же за это время "отваливалось". Поэтому настоящий рассвет "Ленинградского телефонного эфира" многие связывают с появлением Славы– вычислителя. Этот юноша учился в институте связи, и проходил практику на центральной ленинградской АТС. Легенда гласит, что в течении нескольких лет Слава– вычислитель регулярно заводил романы с сотрудницами АТС, и уговаривал их узнать нужную информацию – какие номера "пустуют" и подходят для Эфира. Весь Ленинград переживал его любовные истории как свои собственные.
И правда, ведь основным предназначением Эфира для большинства как раз было… Это самое. Быстрые знакомства, и, по возможности, любовные приключения. Тут ведь даже застенчивый подросток мог (если хватало голоса) изобразить из себя Казанову. Главное было докричаться до потенциальной возлюбленной, и получить ее телефон, чтобы созвониться "в привате".
Но жизнь, конечно, несправедлива, у "центровых" ленинградцев всегда было преимущество. И не только потому, что свидания обычно назначались в центре, но и благодаря близости к старой центральной АТС, куда и дозванивались "эфирщики". Жителей центральных районов было просто-напросто лучше слышно, а голос звонящего откуда-нибудь с Охты "съедали" километры телефонных линий. Впрочем, и там существовали находчивые "технари", подключавшие к проводам усилители, и выходившие в Эфир через них. Они могли вообще заглушить всех. И даже оглушить, почти физически. Говорят, один из таких изобретателей однажды умудрился направить в телефонные провода 220 вольт – и полностью спалить несколько шкафов на телефонной станции…
Можно только представить, какой беспорядок творился тогда, в начале 80-х, в этом "телефонном эфире"! Даже ночами и глубоко под утро на общих каналах оставались десятки человек, и тому, кто дозвонился впервые, казалось, что все они говорят одновременно:
– Две симпатичные девушки в Купчино скучают...
– Есть "777". Один. Скучаю...
– Давайте встретимся на Ваське у метро через полчаса! Кто близко?
Конечно, постепенно ухо "настраивалось", и человек начинал разбирать отдельные фразы, а позднее даже уверенно вступал в разговор. Но все-таки анархия мешала общению, и потому вскоре в Эфире появились короли.
"Ты в Эфир звонила?"
Царствие первого короля "Ленинградского телефонного эфира" (согласно анналам форумов, Игоря Макаренко) началось в 1981 году. Затем его сменяли другие эфирные короли, правление которых бывало и коротким, и длинным, но свои "королевские обязанности" они исполняли исправно. Наводили в разговорах хоть какой-то порядок, урезонивали спорщиков и матерщинников. А, главное, теперь в Эфир можно было "бросить" свой телефон – и Король, или его помощники диктовали его всем желающим. Вот как вспоминает об этом одна из участниц Эфира, Лика ("Алиса московская"): "Ночью кинула телефон в Эфир, звонков не было. Днем приходишь – звонок, тебе говорят: "Ты в Эфир звонила?". "Звонила". "Ну давай знакомиться". "Давай".
Да, но все это был так называемый "главный" Эфир, на который дозванивались по общеизвестным номерам. В основном – ради знакомства, которое продолжалось уже по обычному телефонному номеру, а затем, если все складывалось, перетекало в свидание. Говорят, благодаря Эфиру в Ленинграде не только случились тысячи романов, но и были заключены сотни браков, причем, судя по "эфирному форуму", многие пары остаются вместе до сих пор.
Однако существовали и своего рода "приватные чаты", на номерах, о которых знали лишь немногие. Там люди порой спорили на философские темы, обсуждали книги, читали стихи, ставили музыку с магнитофонов. Легенды утверждают, что этими "эфирными чатами" пользовался даже Виктор Цой, а песня Гребенщикова из альбома "Дети Декабря" "2–12–85–06" посвящена как раз одному из номеров Эфира. Эти утверждения давно опровергнуты, но легенды живут. И, вероятно, будут жить вечно, как и легенда о просверленной "двушке".
Легенда о "двушке"
Да, в Эфир — теоретически – можно было звонить и из телефонов– автоматов. Но, поскольку дозваниваться надо было долго, и один звонок продолжался не больше трех минут, удовольствие это было на любителя. Или, скорее, на профессионала. Нужно было найти в городе такой "подпорченный" телефон– автомат, который позволял бы делать безлимитные звонки. Или – "подпортить" его самому.
Многие, наверное, слышали про знаменитый способ звонить с помощью дырявой "двушки", привязанной к леске. Позвонил, вытащил монетку обратно, опять позвонил. Ну да, конечно! Если бы все было так просто…
Ведь телефоны-автоматы эпохи развитого социализма представляли из себя настоящие высокотехнологичные IT-крепости, главной функцией которых было не дать человеку куда-нибудь позвонить. То есть – в принципе никому и никуда. Телефон в своем мощном бронированном корпусе был идеально защищен от вандалов. Тяжелая эбонитовая трубка была связана с аппаратом бронированным кабелем в стальной оплетке. Рви ее, круши — ничего не получится. И внутри начинка была соответствующая. Монету можно было использовать только латунную (хотя в аппарат легко пролезали стальные кружочки, оставшиеся после какой– то перфорации, и миллионами валявшиеся на советских свалках). Но стальные эрзац – монеты внутри телефона отлавливал магнит. Кроме того, монета должна была весить ровно столько, сколько "двушка" – для ее проверки в телефоне имелись своеобразные весы. Чуть меньше, или чуть больше — монета "проглатывалась", а связь прерывалась. Разумеется, если весы были плохо настроены, случалось то же самое, а человек, истративший на звонок последнюю "двушку", приходил в отчаяние. Вот почему идея двухкопеечной монеты с привязанной к ней леской казалась абсолютно естественной даже для самых законопослушных граждан. Но тут нужны были особые навыки.
Потому что государство в борьбе с желающими позвонить из таксофона не дремало, и с 1979 года все новые телефоны-автоматы оснащались особой функцией — отловом монет на леске. Специальная задвижка перекрывала монетоприемник, как только “двушка” проваливалась в аппарат. Тяни, не тяни – обратно не вытащишь.
Но как бы не так! Умные люди очень скоро поняли, что и на такие аппараты есть управа. Если потянуть леску, и одновременно со всей силы стукнуть в нужное место телефона кулаком, он монету легко отпускал. Кулачные удары по таксофонам вообще часто приводили к значительному улучшению их работы: они переставали “глотать” монеты, а порой и вовсе начинали предоставлять услуги связи бесплатно. Если кулак был слишком легким (например, у женщины или подростка), можно было наносить удары телефонной трубкой. Важно было только знать, куда бить. У каждого таксофона были свои “слабые места”, и все обитатели района, от детей до стариков, прекрасно знали, куда и как целиться.
Человек, который в здравом уме и трезвой памяти боксирует с телефоном– автоматом, стал настолько обыденным явлением в советских городах, что даже милицейские патрули не обращали на это особого внимания. Но именно по причине такого “телефонного карате” (а вовсе не из-за какого-то особенного лихого вандализма российских пользователей) уличные таксофоны долго не жили.
Я сам в этом убедился, когда в УПК летом началась практика, и черт– Блешмут отправил нас вместе с мастерами на дежурства по Москве. Мне достался мастер Маруся. Это была рослая и жизнерадостная девушка лет двадцатидвух с мощным бюстом, словно сошедшая с картинок современного пин-апа. Разумеется, 14- летнему подростку с ней “ловить” было нечего. Это дьявольское искушение, посланное мне Блешмутом, относилась к “курсанту” скорее, как к ребенку, которого надо наставить на путь истинный. Очень скоро, починив три или четыре автомата, мы пришли к пятому – и, увидев его, Маруся плотоядно сверкнула глазами и прошептала пухлыми губами: “О! Смотри, кажется засор!”.
Боже, в этот миг она была чертовски хороша.
Открыв “автомат” специальным ключом (у каждого таксофона было две дверцы, большая чтобы чинить, и маленькая чтобы забирать кассу – разумеется, у мастеров были ключи только от большой дверцы), мы обнаружили среди электрических внутренностей аппарата килограмма два денег. По какой– то причине они в кассу не попали, и теперь хлынули прямо на нас.
– Лови! – воскликнула Маруся.
– А мы должны их пересчитать и сложить в кассу? – растерянно спросил я.
Маруся посмотрела на меня как на идиота, и профессионально набила деньги в объемистую красную дамскую сумочку, которая округлилась как пушечное ядро (или как ее бюстгальтер, подумал я). Горсть монет отсыпала мне.
– Держи, студент! Это тебе на мороженное.
Я густо покраснел и послушно засунул мелочь в карманы некрасивых школьных штанов...
Впрочем, довольно об этом.
Любовь, паровоз и портвейн
Итак, все же звонить в Эфир из автоматов, бесплатно или нет, было делом почти безнадежным. Застенчивые подростки звонили чаще всего из дома, и ночами, когда родители спят. Главное, чтобы шнур телефона был подлиннее, и с ним можно было где– нибудь спрятаться, хоть под одеялом. Некоторые девушки, говорят, “выходили в эфир” по ночам даже из коммунальных квартир, спрятавшись с телефоном в ванной или в туалете.
Но, конечно, не только подростки. Эфиром, который позволял общаться сразу с десятками людей, не выходя из дома, интересовались многие. “Там возникало ощущение огромного, наполненного голосами пространства. Виртуального пространства, задолго до эпохи интернета”, – писал в своем ЖЖ автор под ником syner.
Иные, конечно, смотрели на это увлечение свысока. "В сообществе хиппи в Ленинграде были две разные точки зрения на Эфир. Одни говорили, что там можно познакомиться с прикольной девчонкой или крутым мэном, другие считали: Нет, Эфир – это отстой, помойка. Но, так или иначе, именно в местах хипповых сборищ в "Сайгоне" на Невском проспекте, "Эльфе" на Стремянной, в "Ольстере" на Маяковского, или вот в "Эбироуд", на углу Некрасова и Литейного, можно было узнать эфирный телефон", – вспоминает Лев Лурье.
В середине 80-х годов "эфирщики" в Ленинграде и сами уже составляли настоящую, хотя и достаточно примитивную, субкультуру. Они регулярно встречались "в реале" – говорят, на встречи "у паровозика" на Финляндском вокзале, куда приезжал Ленин, чтобы "взять" почту, телеграф и телефон, приходило по несколько сотен человек. Они писали на майках слово "Эфир", и пили друг с другом портвейн. Других идей у них не было.
Не могут короли
Но началась Перестройка, и в ленинградских газетах стали появляться статьи про Эфир. Сперва удивленные, потом – восхищенные. В духе эпохи, приветствовалось все "молодежное", да к тому же Ленинградский Комитет Комсомола получил задание взять все субкультуры "под крыло". Только вот незадача: чем больше газеты писали про Эфир, тем больше звонков шло на его номера, и оборудование АТС все чаще выходило из строя. Поэтому телефонное руководство объявило "эфирщикам" настоящую войну, и стало отключать свободные коммутаторы.
В 1987 году Эфир отправил делегацию в Горком Комсомола, чтобы потребовать переговоров с телефонистами. Делегацию возглавляли короли и их придворная свита. Вооружась ворохом газетных публикаций, они требовали встречи с начальством телефонной станции. И встреча состоялась, но "блешмуты" из Ленинградской АТС остались непреклонны: они ненавидели "эфирщиков" смертной ненавистью, и мечтали, разделавшись с ними, снизить нагрузку на оборудование…
Ха-ха. Они еще не знали, что такое интернет по телефону, dial-up, когда на один номер пытается дозвониться тысяча компьютеров с модемами. Через десять лет, когда все это началось (уже не в Ленинграде, в Петербурге), телефонисты, вероятно, вспоминали об Эфире почти с нежностью. Но никакого Эфира к этому моменту уже не существовало.
В конце 80– х годов одна за другой телефонные узлы "Северной столицы" все– таки начали переход на цифровое оборудование, которое не позволяло подключать несколько абонентов к одной линии. Дольше всего, говорят, продержалась Щемиловская станция (номера 262 и 267) в Невском районе Петербурга, но и на ней последняя декадно-шаговая АТС была ликвидирована летом 2006 года. Впрочем, к тому моменту новые технологии почти вытеснили даже обычные телефонные аппараты, заменив их сотовыми трубками. Что уж говорить о Ленинградском телефонном эфире, который, безусловно, никак не мог соперничать с интернетом...
А все-таки память об этом причудливом явлении, предвосхитившем современные чаты и конференц-связь, у многих еще свежа. Про Эфир снято несколько фильмов, ему посвящены десятки статей и большой форум, на котором участники из ранних 80-х общаются до сих пор. И постепенно выясняется, что Ленинград был далеко не первым, и не единственным.
Согласно комментариям (которые зрители оставляют к фильмам про Эфир) нечто подобное, пусть не так долго, и с меньшим количеством участников, существовало в десятках советских городов. Фактически всюду, где работали АТС-47, от Новочеркасска до Одессы, от Красноярска до Хабаровска. В каком– то виде Эфир проникал даже в деревни: "У нас такой эфир случался при сырой погоде, не нужно никакой номер набирать, просто поднял трубку и тихо слышно кучу народу. У меня дядя так с женой познакомился, сейчас они родители 4 взрослых детей и дед с бабкой, 5 внуков...".
Где теперь услышишь такие трогательные истории?
И, конечно, свой Эфир был не только в СССР. В США, например, в 50– е годы тоже случались сбои на АТС, из-за которых возникали групповые разговоры. Но когда персонал телефонных сетей обнаружил, что народу это нравится, на станциях ввели платную услугу "голосовой чат", которой многие в Америке с удовольствием пользовались десятилетиями…
Просто чат, в который может войти каждый. Без "дозвона" с тысячного раза, без сбоев на линии и хрипа в наушнике. Без мата и криков, без оглушающей музыки. Без романтики, без королей, без коротких гудков и тайных номеров.
Что ни говори, такой услугой в России может воспользоваться только сумасшедший.